– Разве после трюма в хату так заходят? – шепотом негодовал он. – Надо заходить вот так, понял?
Он расправил плечи, выпрямился и гордо поднял голову.
– Героем надо возвращаться, ясно? Отовсюду! Тем более из трюма.
Я сказал Славе, что понял.
Горбачев не вернулся героем. У той революции не было героев, и спустя год, когда рьяные коммунисты попрятались по углам, когда на каждом углу уже продавали доллары, гондоны, бухло и поддельные спортивные штаны, когда по обочинам встали эскадроны блядей, а в бывших книжных магазинах обосновались казино и кабаки – я понял, что правильно сделал, когда не поверил в революцию девяносто первого года.
Впоследствии мое отвращение к революции год от года все увеличивалось. Я знал, что революция пожирает своих детей, но не подозревал, что это будет происходить на моих глазах, и мне будет слышно чавканье и урчание жрущей революции, и мне будет видна обильная слюна, текущая по липким губам революции, и ее сладострастно зажмуренные глаза.
Прошло восемнадцать лет, нулевые годы закончились, и мне сейчас ясно: когда революция сожрет своих детей, она захочет сожрать моих.
Думаете, я не был романтиком? Спросите у моей мамы. У соседа по парте Поспелова. К восемнадцати годам у меня накопилось пять тетрадок стихов и песен. Я был настолько романтичен, что лишился девственности только в двадцать два года. Но даже в самые пылкие и романтические периоды я предпочитал сосредотачивать пыл и романтизм в одной точке: там, где было мое дело. Там, где трудился. А трудился я всегда – с четырнадцати до сорока, на протяжении двадцати шести лет – над созиданием чего-либо. Строил, изобретал, мастерил, придумывал. Все остальное мне неинтересно.
Могу казнить, резать, под пулями бегать, в тюрьме могу сидеть – но не от любви к революции, а просто я уродливый человек. Слишком жестокий. Таким, как я, нельзя сублимировать жестокость в разрушение – только в созидание.
Есть знаменитая скульптура Шадра «Булыжник – оружие пролетариата». Мускулистый мужчина, мощно напрягши торс, выламывает из мостовой камень. Скульптура очень красива и абсолютно лжива. Таких атлетически сложенных пролетариев не бывает. Однообразный физический труд уродует тело. Пролетарии в массе своей худощавы и угловаты. Но главная ложь – в форме камня. Мускулистый отрывает от земли бесформенный, дикий камень, тогда как булыжник – это обтесанный кусок гранита правильной прямоугольной формы. То есть сначала рабочий человек, созидатель, в поте лица трудился, прикладывая руки к дикому камню, придавая ему форму, скалывая углы, вбивая в мостовую, – и только потом революционный пролетарий изуродовал, разгромил, выломал этот камень, дабы швырнуть в сатрапов.
Революция очень красива, а я не верю красоте, я верю истине.
Слава Кпсс сильно горевал.
– Гадом буду, я не знал, – горько простонал он и даже, перегнувшись в поясе и уперев руки, сделал попытку 11 удариться лбом о капот моей машины. – Выходит, я тебя собственными руками подвел под мусоров!
В его дворе было некрасиво, но тихо и зелено, клены начинали желтеть, в распахнутом окне второго этажа маячило лицо старухи – она смотрела в переулок, как в телевизор. Я извлек из кармана пакет с салфетками, присел, протер фары. Удаление грязи с собственного автомобиля очень успокаивает; в свое время регулярные манипуляции с вытиранием разнообразных доступных поверхностей помогли мне избавиться от невроза. Надо все-таки попробовать завести лошадь, подумалось мне. Я бы ее каждый день чистил, скреб кожу щетками, причесывал гриву. Угощал сухарями. Мы бы дружили.
– Все в порядке, брат, – ответил я. – Просто мне показалось, что я должен поставить тебя в курс.
– Так он что, хотел кого-то взорвать? Или чего похуже?
– Не знаю. Но ФСБ фуфлом не занимается.
– Как я могу загладить вину? – сурово спросил Слава.
– Завязывай, – попросил я, еще более сурово. – Я тебе что, прокурор? Еще раз скажешь про «вину» – я с тебя спрошу как с понимающего.
Несмотря на осеннюю прохладу, Слава был в шортах, на его коленях красовались синие воровские звезды. В центр Москвы он не рисковал ездить в таком виде, но у себя «на районе» мог ходить хоть в римском хитоне, хоть в костюме алеута-китобоя, сшитом из рыбьих кишок (кстати, ему бы подошло), ибо авторитет его в пределах улиц, примыкающих к метро «Выхино», был необъятен.
– Этот подпольщик, – Слава сплюнул, – прикинь, два дня назад нарисовался, на пять минут, весь такой с понтом деловой, принес лавэ, рассчитался по долгам, под ноль... Расстались нормально, как люди... Я еще подумал: вот, порядочный пацан, таких бы побольше...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
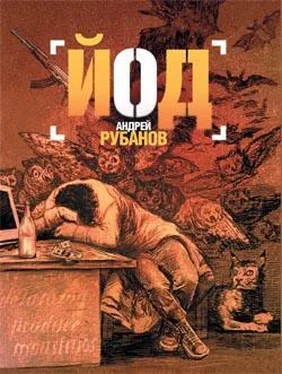


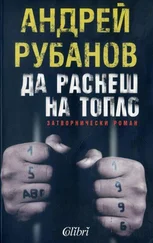






![Андрей Рубанов - Сажайте, и вырастет [litres]](/books/401249/andrej-rubanov-sazhajte-i-vyrastet-litres-thumb.webp)

