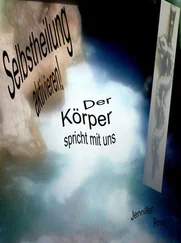Оставалось непонятным: как это "расстреливают евреев и коммунистов"? И как "мужиков кастрируют!" И кто кому всё же "сдал минск?" Что такое: "минск"?
Понимание того, что обещали встревоженные языки от надвигающихся немцев, медленно, но верно, приходило в сознание, и только одна "кастрация мужиков" не поддавалась осмыслению. Вроде бы всё оставалось прежним, но родители как-то притихли. Обстановка с пропитанием становилась всё хуже и хуже…
Глава 49.
Первые военные звуки.
Не могу назвать дату прекращения работы основного, самого демократичного на то время вида городского транспорта: трамвая.
Не знаю и такое: или вражеская авиация разнесла вдрызг подстанции, что питали электроэнергией любимый и почитаемый городской транспорт, или это сделали отступающие сапёры красной армии, но кто бы не сделал "доброе дело" — "поклон" им и "понимание текущей обстановки" от жителей города. Главное и основное — исчезло электричество. И тогда "советские" граждане, самые удивительные создания на всей планете в двадцатом веке, немедленно вспомнили о древних источниках света: керосиновых лампах.
Необъяснимое явление: ныне широко пользуюсь электроэнергией, и если случается неисправность в подаче, то наступает мрак: осветить жильё нечем, нет у меня "альтернативных источников" освещения, не держу их.
Зачем лишняя забота? Если остаюсь без электроэнергии, что очень редко случается, то заваливаюсь спать "вместе с курами" и с лёгкими огорчениями:
— Новости по "ящику" не посмотрел… Хотя, что в новостях? Разве они от меня зависят? Нет! Вот и спи… — оно, конечно, вроде бы рановато ложиться, бока отлежишь за тёмное время… Если свечи зажечь, или лампу керосиновую? Как в войну?
Безответный вопрос к прошлому: откуда и вмиг у монастырцев появились керосиновые лампы? "Революция" "лампочку Ильича" принесла, поэтому старые, вонючие керосиновые лампы можно было и выбросить, как напоминание о "ужасном прошлом"!? А они не выбросили! Если берегли старые керосиновые лампы, то разрешено думать, что они не верили "в прогресс, что несла им власть советов"?
Почему отца не призвали "на защиту союза советских социалистических республик" — не знаю. Не потому ли, что ему было сорок? Или потому, что у него было трое? "Мал мала"? Или в верхах надеялись, что война продлится пару недель и призывать "старьё", вроде отца, на защиту "самого гуманного и передового строя в мире" нет нужды?
Никогда не спрашивал отца о причинах, по которым ему было отказано "послужить родине". Не дано было знать маленькому водителю "городского электрического транспорта" (трамвая) всех тонкостей "высокой" политики. Другие подозрения на эту тему "не выдерживают критики": советская власть побаивалась призывать на защиту "классово неустойчивого и чуждого ей товарища" с помещичье-купеческой родословной. Обедневшей, но "помещичье-купеческой"… "герой — но дурак… дурак — но герой"! — из этого "водоворота" нам никогда не выплыть. Выбор не широкий, но останавливаться на чём-то одном нужно.
Никто в "трудные минуты отступления" не подгонял грузовиков к монастырским кельям и не предлагал обитателям бегством на восток спасться от вражеского нашествия. Хочешь спасаться — "бери ноги в руки" и убегай сам! Куда?
— Кто и где нас ждёт? — задавала резонный вопрос в пустоту большая часть монастырских насельников, и не думала покидать кельи, отнятые советской властью у монахинь.
— Этих мы видели — говорили "монастырские" граждане, кивая головой в сторону убежавших на восток соотечественников — посмотрим, каковы те — и указывали большим пальцем правой руки на запад.
— Враги идут, чтобы вас убить и захватить вашу землю!
— А нам без разницы, кто нас убьёт! Да и земля не наша — уже до прихода врагов монастырские обитатели были готовыми предателями.
— Предатели, как выяснилось через много лет, как и доходы, бывают "декларированные", то есть "заявленные", и тайные, "неучтённые". Обитатели любимого твоего монастыря были во второй группе — сделал уточнение бес. Я не возражал.
Глава 50.
Прогулка в Латвию.
На начало войны у отца было двое друзей. С одним общая работа в мирное время, и общая вера в бога, с другим — только работа. Другой не был махровым атеистом, его скорее стоило бы именовать "сильно сомневающимся".
Имя сомневающегося "в божьих промыслах" — Василий с отчеством "Васильевич". Отец звал его "Васькой", что позволительно делать только большим друзьям. Иногда пользовался прозвищем Василия Васильевича: КРАЙРОДНОЙ. На дачу прозвищ мы очень способный и талантливый народ. Наши прозвища, что мы "клеим" взаимно, могут быть любыми. Много за семь десятков лет слышал прозвищ, но прозвище отцова друга "Крайродной" было красивым и точным. Прозвание Василий Васильевич получил за великую любовь к родному городу. Это был большой патриот своего города, и никаких иных мест за чертой города не признавал. Пускал кого-то ещё Крайродной в свою большую любовь к городу — о таком расспросить Василия Васильевича я не мог.
Читать дальше