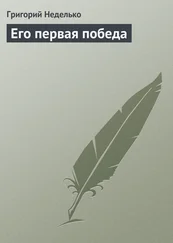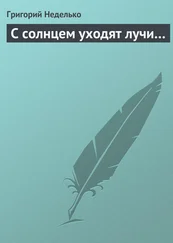И так же как среди величественной Божьей природы многие живые создания в последний миг своего бытия вдруг подают голос и издают звуки, в которых, кажется, сконцентрирована вся их вера в жизнь, так что крик, исходящий из горла, звенит как устремленная к небу хвала безупречной логике и справедливости жизни, так и в тесной пекарне среди конвульсий и стонов еще живых мертвецов прозвучал обезображенный хрипом голос того, кто дольше всех оставался живым, и теперь уже без всякого выражения, совсем спокойно спросил своего убийцу, который довершал свое страшное дело: «…за что — ведь вы, сербы, и так всей страной командовали…»
В потрескивающем ацетиленовом полумраке, посреди жуткой бойни, перебирая пальцами пряди тумана и сам, как туман, белый, с закрытыми глазами, в окружении семерых опьяненных кровью и ракией убийц, стоит Царь ветров. Он, страшный, наводящий ужас, явил себя лишь одному из них, но тот (как в свое время и Вронский!), пытаясь отмахнуться от призрака, пробормотал: «Проклятая сливовица!»
В конце сентября, когда сербские силы всей мощью обрушились на село Ловас, в надежде через него выйти к Сотину и таким образом отрезать Илок, который к этому времени уже был лишен каких бы то ни было связей с остальной Хорватией, так же как это произошло и с Шаренградом, и Бапской, и всеми остальными населенными пунктами на хорватской границе с Воеводиной, однажды утром Вронский, измученный ночными кошмарами, в глубокой задумчивости забрел в ту часть города, которую все еще контролировали хорваты. Граница была столь условной, что никто ему не препятствовал, никто не обратил на него внимания.
Среди руин, на стене одного из немногих уцелевших домов он заметил криво висящую табличку с названием «Улица Йосипа Краша» и, не очень хорошо представляя себе, куда она его приведет, и не отдавая себе отчета, зачем он это делает, неспешно отправился вдоль этой улицы, и ему казалось, что щедрая прелесть теплого сентябрьского утра, напоенного ароматом айвы и запахом только что вскипевшего молока, которым пахнуло на него из ближайшего окна, разливается повсюду, окутывая людей, толпящихся в небольших лавках и магазинчиках, возле зданий почты и банка, на бензоколонке, распространяясь по всей земле, а не только в небе, голом, пустом, высоком, равнодушном и тихом.
Не веря собственным глазам, Вронский вдруг увидел под стеной одного из домов, сильно поврежденной разорвавшимся неподалеку снарядом, сидящего в тени, защищающей его от почти жаркого сентябрьского солнца, старика. Он курил. И эта в общем-то ничем не примечательная картина показалась Вронскому настолько ярким и сильным выражением самой жизни, ее силы и неуничтожимости, что он непроизвольно улыбнулся, показав свои крепкие, здоровые зубы.
Старик взглянул на него, но ничего не сказал, не ответил на его улыбку. Вронский долго стоял перед ним и думал о том, как похожи друг на друга все старости на свете, а потом на дикой смеси своего родного, сербского, и хорватского языков спросил:
— А ты не боишься, starik?
— Не боюсь, товарищ военный. Не каждый снаряд убивает, а если какой и убьет, то ведь только один раз.
…………………………………………
То, что он увидел позже, на довольно большом от себя расстоянии, которое быстро уменьшалось по мере приближения, поначалу показалось ему мешками с песком, которые, видимо, кто-то сбросил с грузовика. Стаи ворон и шумно трещавших сорок перескакивали и перелетали с мешка на мешок и крепкими ударами клювов отщипывали то, что находилось внутри. Там, где не справлялся один клюв, ему на помощь приходил второй, третий, и еще, и еще, а потом уже вся стая перелетала на новый, еще нетронутый мешок.
И в тот момент, когда он засомневался, действительно ли это мешки или же… и когда, бросив под ноги окурок, ускорил шаги, поняв вдруг безо всяких доказательств, а только по одному охватившему его страху, что находится на территории врага, среди хорватов, как перед ним выросла фигура солдата в форме хорватского ополчения.
— Дальше прохода нет, вы что, не видите, это погибшие сербы? — заорал солдат.
Тут Вронский понял все.
Солдат потянул Вронского в сторону, под крышу, каким-то чудом еще державшуюся на полуразрушенном двухэтажном здании, когда-то давно выкрашенном ярко-желтой, кричащей краской (об этом можно было судить по остаткам стен, на одной из которых сохранилось написанное краской слово «ТИТО»), вытащил из сумки мегафон и прокричал в сторону противоположного конца улицы:
Читать дальше