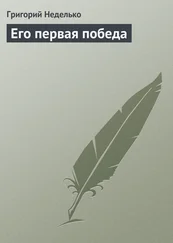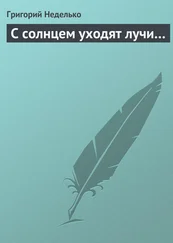Кто в нем говорит эти слова — он сам или Анна, которая уже мертва? И он видел ее в вагоне поезда, такой, какой увидел впервые на железнодорожном вокзале, когда ощутил потребность посмотреть на нее еще раз, еще раз взглянуть на это прекрасное, нежное лицо, а она (он это ясно помнит, он видит это сейчас) повернула голову в его сторону, чтобы увидеть его, и ее сияющие глаза, которые из-за густых ресниц казались еще темнее, с вниманием остановились на его лице, глядя на него, желая видеть его сейчас, в окружении этих близких и дорогих ему ученых людей, «которые, правда, говорят очень странные вещи, — вдруг пронеслось у него в голове, — вещи, о которых я ничего не знал, когда, согласившись на предложение Яшвина, решил приехать сюда, вещи, которые кажутся мне пугающими и непонятными, даже просто непостижимыми», и тут он, плотный, крепко сбитый красивый брюнет, опустил голову и, не в силах вынести тяжести ее взгляда, в спасительной темноте ладоней, которыми он закрыл лицо, — прослезился.
«А что стало с ней сейчас, в этот момент, когда я стою здесь, в эти минуты, когда вокруг как неумолимое, бесстыдное, навязчивое, грубое проявление жизни и воли к жизни струятся дымные ароматы сигар и трубочного табака и резкий запах низкосортных сигарет, что стало с ее руками, с ее маленькими пальцами, которыми тогда, при нашей первой встрече, выходя из вагона, она так сильно стиснула мою дрожащую руку? Превратились ли уже эти руки в голые, белые, ледяные кости, похожие на те, которые бросают со стола обычным собакам? Или в них еще можно узнать руки, которые когда-то ласкали меня? Проникает ли дождевая вода в ее гроб? Холодно ли ей там? А может быть, на этих костях, милых, хрупких, нежных, все еще сохранилась кожа, ее кожа, жаждущая моей любви после стольких лет отчужденности и одиночества в браке, в котором она жила и потихоньку старела, и я целовал ее пальцы, маленькие пальцы, теплые, нежные, переплетенные с моими (он чувствовал их сейчас на своих щеках и не знал, чьи это пальцы: ее или его собственные), и она просила у него прощения за то, что наконец отдалась ему (и сползла на пол с дивана, он видит это), за то, что спустя целый год, состоявший из томительных дней и ночей, утр и вечеров, когда их любовь уже не была ни для кого тайной, она наконец-то стала его и, всхлипывая, он помнит это, прижимала его руки к своей груди. Что же сейчас с этой грудью, всегда теплой, мягкой под его руками, которыми он, в эгоизме страсти, сжимал ее и бесстыдно скользил по ней пальцами, когда его телесное желание уже было удовлетворено? Почернела ли и высохла ее грудь сейчас, может быть, она сморщилась, как ягоды рябины на морозе? Ползет ли по ее груди сейчас, возможно оставляя за собой слизистый след, какая-нибудь улитка или дождевой червь? Или эта грудь до сих пор еще сохраняет очертания сосков, похожих на темные ягоды изюма, которые он сжимал зубами, к которым прикасался языком? Сухо ли там, под землей, или ее грудь, мертвую, но по-прежнему мою, окружает вода, дождевая, подземная, ледяная? Что стало с ее волосами, превратились ли они в смрадной темноте гроба в какое-то подобие соломы, слипшись в пряди, подобно засохшим хрупким цветам белой росянки наверху, на могиле? А может быть, в гробу все стало бесформенной массой, даже ее волосы, которые всегда первыми знали, что мое мужское сладострастие достигло своей вершины, потому что, взглянув на тело этой женщины, я зарывался лицом в ее шелковистые волосы?»
Он покинул мрак, созданный собственными, прижатыми к лицу ладонями, и незаметно вытер слезы. И старая, давно знакомая, мысль снова пришла ему в голову: «Ах, надо уснуть, забыть, убежать, убежать…»
Сейчас он снова видел их перед собой, снова слышал звуки их голосов; к счастью, они, кажется, даже не заметили, что с ним происходило, и он был благодарен им за это настолько, что даже смог улыбнуться, не отводя взгляда от их лиц — и бедного поэта, который продолжал мучиться с переводом на русский, и академика, и третьего из них, и даже какого-то четвертого, незнакомого, и всех других, кто в этот момент проходил мимо: мужчин, женщин, официантов, священников, чьих-то, невесть откуда взявшихся развязных детей, громко перекрикивающихся и путающихся под ногами у взрослых…
Тем временем в руках у них снова оказались полные рюмки, и они снова подняли тост за здоровье друг друга.
Вдруг Вронский, уже немного отяжелевший от выпитого, случайно поднял взгляд от только что налитой ему очередной рюмки и заметил, что снаружи стемнело и что через одно из приоткрытых окон вплывает похожий на паклю клок серого тумана.
Читать дальше