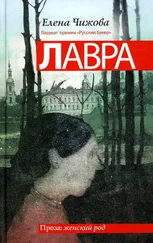Мимо Меншиковского дворца, притопленного в землю, Тетерятников шел по набережной. Мало кто сомневается в том, что Москва пребывает на взлете своего могущества, — с этой высоты Советская империя кажется незыблемой. Однако такое могущество — мнимость. Москва, нимало того не ведая, начинает повторять ошибки, а значит, и судьбу Рима.
Приземистое здание Университета осталось позади. Поравнявшись с Академией наук, Матвей Платонович подумал, что римляне, в отличие от москвичей, обладали большей прозорливостью. Во всяком случае, Сенека, отдававший себе отчет в том, что Римская империя вступила в эпоху кризиса. Оглянувшись по сторонам, Тетерятников вспомнил его решающий довод: кризис достиг своего апогея тогда, когда культура Римской империи превратилась в культуру элиты, чуждую плебсу, не имеющему мудрости. Согласно Сенеке, это — показатель неминуемого упадка. Тетерятников вспомнил лица женщин, посещающих его лекции, и злорадно подумал о том, что Советскую империю спасти нельзя.
Еще одной приметой близкого конца Сенека считал единоличную власть. Суть дела он выразил совершенно определенно: с одной стороны, единолично правящий император объединяет народы, как мировая душа объединяет космос. Это — сила центростремительная. Ей противостоит другая — центробежная: те, кого против воли объединяют в один народ, копят злобу и ненависть. Конечно, власть принимает меры: подозреваемых в неблагоприятных отзывах об императоре репрессируют без суда и следствия — по одним доносам врагов или даже рабов. Но это противоборство разрешается лишь крахом империй: противоречия такого рода снять нельзя.
Выходя на Дворцовый мост, Тетерятников бормотал о том, что только люди, лишенные исторического страха, могли назвать Москву Третьим Римом. Те, кто ввел в обиход эту хлесткую фразу, имели в виду религиозную преемственность, а значит, не имели ни малейшего понятия о самой сути дела. Конечно, они не могли знать заранее, что будущая могущественная эпоха откажется от религиозного творчества, заменив его верой в своих собственных богов. Но слово, сказанное однажды, остается навсегда: до поры до времени оно живет затаившись, чтобы, выждав удобный момент, наполниться всеми прежними смыслами. Слово — вирус, умеющий переждать самые трудные времена.
Теперь Москва закоснела в сознании своего могущества, но если вспомнить историю Рима, истинно великие события могут случиться только в провинциях. Провинция провинции рознь. Здесь Тетерятников обратился мыслью к Петербургу.
Конечно, Петербург — тоже мировая столица, но его величие в прошлом. Нынешний Ленинград — провинциальный город, но — особенный, во всяком случае, не один из многих. В каком-то смысле он подобен Иерусалиму римских времен. Не исключено, что с течением времени этот город воспрянет заново, — в конце концов, не все великие города обречены забвению.
По Дворцовому он шел, морщась от ветра. С той стороны реки, на крыше зеленоватого здания, стояли каменные римские граждане — посланцы Москвы. Победная колесница, вырываясь из рук легионеров, взлетала над площадью. Матвей Платонович думал о том, что римляне обсели город, как птицы.
Свернув к Адмиралтейству, Тетерятников снова забормотал. Только культура — есть истинно религиозное творчество, в котором нет ни римлян, ни иудеев, ни ересей, ни еретиков. Преемники воспринимают не религию, но культуру: она одна во всякое время способна давать побеги Духа, тогда как все религиозные культы имеют свое начало и конец. У культа, исчерпавшего себя, нет наследников. Никогда он не сможет воскреснуть.
Ступая по лужам, он шел мимо дома Лаваля: 14 мая 1828 года здесь, в присутствии Мицкевича и Грибоедова, поэт читал:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя.
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром стольких лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил…
Тетерятников бубнил машинально. С известной долей условности творчество Пушкина тоже можно назвать местным религиозным культом, но культ этот — особого рода. Тетерятников не мог представить времени, когда он иссякнет.
Кажется, Матвей Платонович выбрал правильный путь: на фоне московско-римских размышлений работа двигалась споро. Ближе к вечеру, добравшись до верхней полки, он обнаружил Полибия: “Всеобщая история в сорока книгах”, точнее, первый том московского издания 1890-х. Полибий, образованный и изощренный грек, стал посредником между двумя цивилизациями — греческой и римской. Пушкин, в известном смысле, повторил его судьбу. Он стал первым, кто приобщил русскую литературу к европейской традиции. Сладострастно хихикнув, Тетерятников отложил Полибия в свою кучку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу