Гуру решил порвать с Лизолей.
Явился со своим зеленым чаем, попил его без сахара, сказал, что контрамарки на сей раз не принес, и объявил о своем намерении расстаться с нею, как не прошедшей первоначальных испытаний, а также не обладающей дхармическим глазом, или внутренней восприимчивостью к Учению.
— Что это вы, Антон Борисыч, каким-то глазом меня вдруг стали попрекать? — с обидою спросила Лизоля. — Уж так и сказали бы сразу, что не нравлюсь вам, как женщина, вот и все. Что мне про глаз-то говорить! Я и сама про глаза-то кой-чего знаю.
— Что же именно?
— Карий глаз страстный, синий глаз опасный! А вы контрамарочку пожалели. Убудет от вашего цирка, если лишний раз там побываю. Вот вы ко мне хоть сколько в кино ходите — и копеечки не возьму!
— Но не в этом ведь дело, вы поймите! — плаксиво воскликнул Гуру. — Как может личность, стремящаяся к освобождению, достигаемому сознанием омерзительности субъективных желаний, стремящаяся к высшему состоянию, или чакраварти, заниматься такой чепухой, как унизительное добывание контрамарок! Тьфу, мелочь, низость, и говорить-то об этом непотребно! А вы меня запутали. Вернее, впутали. Прощайте, прощайте! Я ухожу от вас. Пусть ваши добрые деяния формируют хорошую карму.
«Карму! Дать бы тебе сейчас по кумполу. Чтобы знал, как отнимать впустую время у одинокой женщины». Так подумала Конычева, — но не сказала, конечно. А лишь, подойдя к Гуру, толкнула его обратно на диван.
— Как вы понимаете ваши «благие заслуги»?
— Ну, это много чего! — отвечал Афигнатов. — К примеру, не воровать, не клеветать, не говорить грубых слов, не болтать вздора…
— Это ясно, понятно! Чего не делать, мы худо-бедно знаем. А вот что делать, делать-то что? Ке фер?
Учитель несколько растерялся:
— Ну, как сказать… совершать исключительно добрые деяния.
— Так, хорошо. Значит, если я не ворую — то уже тем самым делаю доброе дело? Что-то не очень я поняла. Что вы все бегаете тогда, учите кого-то, чего-то обретаете, колготитесь? Придите домой, лягте на пол и лежите, пока не умрете. Лежа и не украдете, и не напрелюбодействуете, и не умрете. Так вы это понимаете, что ли?
— Ну… Ну, зачем же?..
— Ага, ага! Значит, и вы так не думаете! Благие заслуги — это не только не делать злого, а еще и делать доброе, вот что. А что вот вы доброго в своей жизни совершили, скажите? — говорила Лизоля-провокаторша.
Прошло мгновение, и вдруг кровь густо бросилась в худое лицо Гуру: он понял как-то вдруг, что истинно добрых дел он за собою и правда не может припомнить, разве что — играл в цирке, и люди радовались, слушая музыку. Все же остальное — дела такие, ни добрые, ни злые, скорее — обязательные, общежитейские, от которых холодно или жарко лишь самому себе.
— Что же вы мне теперь сказали… — он резко встал, поднял руку, коснулся пылающего лба. — Как вы мне сейчас сказали…
Словно во сне Гуру поднялся с кресла, подошел к окну и взглянул на двор перед Лизолиным домом. Там в кустах стоял донельзя пьяный бородатый старик затрапезного вида и громко пел: «Неужел-ли это я-аа!..». Трое ребятишек сосредоточенно били четвертого; он с воем ужом, наконец, выскользнул от них, и помчался между кустиков и клумб, петляя. Важная мамаша прокатила младенца в коляске. За нею шел еще малыш, и, судя по всему, в ближайшем будущем она рассчитывала подарить свету нового гражданина или гражданку времен перестройки и гласности. На асфальтовой дорожке крупно написано было мелом: «Чичкова — дура!»
Вечером в Потеряевку стали прибывать странные гости; поодиночке, редко по-двое сходили с пыльного автобуса мужики и двигались к деревне. Кто с сумкою, кто с портфельчиком, кто в сеточке нес нечто завернутое в газету или в полиэтилен. Все они спрашивали Богдана, и всех их отправляли на стройку конюшни, воздвигаемой батраками. Мужики несли хомутики. Богдан плакал, принимая подношения, мычал и порывался бежать к хозяину за деньгами, чтобы снова устроить попойку. Но мужики говорили: «Да нет, сегодня — что ты, сколько можно! Сегодня мы в завязе». Прощались и уходили. Явился среди них и тот парень, что жаловался на ужасного обидчика. Оказалось, правда, что фамилия у того совершенно никакой не Бороров, а Вешкуров, а обида была в том, что поставил прогул на работе — в то время как причина была уважительная, связанная с похоронами соседки.
Наконец, ушел последний мужик; Богдан, Клыч и Фаркопов остались одни в стенах фермы, где между стропилами начало уже темнеть небо. Они сидели и глядели на гору хомутиков, и еще на три их мешка, привезенные Клычем. Даже если бы все они прожили не по одной, а по три батраческих жизни, — все равно такого числа хомутиков было не израсходовать.
Читать дальше



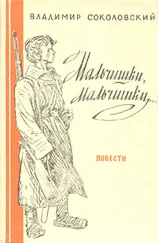
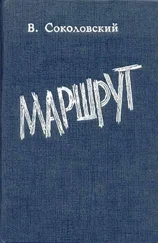
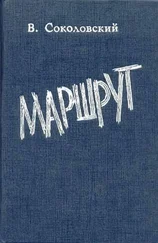

![Владимир Поселягин - Уникум [litres]](/books/435225/vladimir-poselyagin-unikum-litres-thumb.webp)


