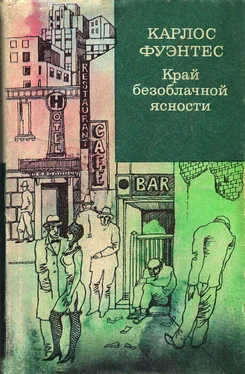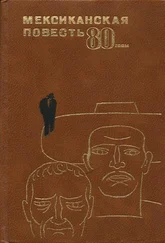кто это, кто это? Я вам скажу: это Пачито по прозвищу Че
— Inderweltsein [46].
скоро приедет телевиденье, а-а-ай, нет, нет, нет
— Место интеллигента в деревне.
побарабатиби кункуа, не-е-е-гр, побарабатиби кункуэ
— Он хочет, чтобы я спала в чулках и поясе, представляешь?
Делькинто кричал, перекрывая грохот марак и бонго и рев обливавшихся потом негров: «Снобизм, чистый снобизм! Посмотрите на мою Жюльетту! Вы думаете, это загадочная женщина с бурным прошлым? А она — дура, вульгарная, невежественная баба, которую я умелой рукой подобрал на зубоврачебном факультете и которая в этой обстановке умирает от страха, гр-р-р-р-р!» И он сжал Жюльетту в объятиях, а графиня Аспакукколи тем временем, воспользовавшись сумятицей, проскользнула в кухню.
— Че, Мехико — воплощение ницшеанского тропикализма!
Бобо плакал от смеха, в бешеном темпе меняя освещение; силуэты мелькали словно вырезанные ножницами из фиолетовой, красной, синей бумаги. Кукита вышагивала по-военному, а Сюпрату ползал за ней на коленях, дым въедался в тела, звенели бокалы, нервно обмахивались взвинченные женщины.
умерла Долорес сеньоритой
— Без сомнения, Мексика — страна, полная жизненных сил. Разве можно представить себе это в Мар-дель-Плата!
Делькинто тискал Жюльетту, целовал ее в затылок, вытаскивал ее груди, жал живот под вопли Бобо, и Шарлотты, и Лалли, и философа Эстевеса:
— Гнусная блудница! Пусть гноищем будет твоя могила, и пусть твоя тень чувствует ужасные муки жажды…
— Проперций! — ликуя, воскликнул Дардо Моратто. — Проперций! Terra tuum spinus… [47]
уже едва слышны клавикорды, как аиста тихий клекот
Бобо в тесной пижаме былых времен, когда он еще был строен, приканчивал последнюю бутылку коньяка с меланхолическим видом вестгота, пережившего полный разгром, и, вдыхая затхлый запах окурков и винных опивок в разбитых бокалах, бормотал:
— Бойся данайцев, Бобо, бойся данайцев!
Потом принялся на четвереньках собирать спички, разбросанные по ковру. Одиннадцать утра. На Инсургентес, на Ницце, где особняки времен Порфирио Диаса уже приходили в упадок, превращаясь в магазины, рестораны, салоны красоты, рычали моторы. Полуденное солнце нещадно пекло. Ни малейший ветерок не шевелил хохолки тополей на Пасео-де-ла-Реформа. С девятого этажа облицованного розовым камнем здания, высившегося между двумя унылыми мансардами, Федерико Роблес смотрел на неуверенную стилизацию, которую являл собой город. Воздушные и хрустальные с фасада, дома показывали свои неказистые, грубо окрашенные кирпичные торцы с рекламой пива. Вдали, у подножья гор, вихрилась бурая пыль. А здесь, поблизости, тарахтели пневматические молотки — рабочие разбирали мостовую. Гирлянда приземистых секретарш и продавщиц, покачивающих бедрами и сопровождаемых вольными комплиментами, сплеталась с вереницами бездельников и старых гринго в рубашках с открытым воротом, рассказывающих анекдоты, привезенные из Канзас-Сити, другим гринго, набитым анекдотами, которые ходят в Пеории. Спешили, поглядывая на часы, лысые люди в серых костюмах с потрепанными портфелями под мышкой.
— Такси, такси! — слышалось с тротуаров. Лавируя и обгоняя одна другую, «туту-ту-ту», сплошным потоком мчались машины. Гудки разбудили Родриго Полу; несмолкаемый городской шум проникал сквозь щели и в его комнату в глубине дома на улице Росалес. На плоской крыше своего особняка, укрывшегося в центре Ломас-де-Чапультепек, Норма Ларрагоити де Роблес разложила подушки и скинула свой шелковый халат. Тщательно, чтобы напитать каждую пору, она намазывалась опаловым маслом «Sun-tan» [48]. Ортенсия Чакон ждала в темноте шумы с улицы Тонала, ждала, когда во второй раз из школы высыпят дети — вечерняя смена — и повернется ключ в замочной скважине. Проспект Микскоак медленно пробивался сквозь строй приземистых зданий под надзором бакалейных магазинов, мелочных лавок и второсортных кино, среди шума кирок и катков, трамбующих асфальт, но ничто не проникало в наглухо запертую комнату Росенды Пола, все еще погруженной, как в кошмарный сон, в свое бредовое бдение, охваченной ужасом перед тем, что она видела с предельной ясностью, но не могла выразить словами, застревавшими в ее дряблом горле, содрогающемся от нервной икоты. Шарлотта, Пьеро, Сильвия Регулес, Гус, принц Вампа, Пичи, Хуниор спали; только Пимпинела де Овандо, элегантная и надушенная, в черных очках, шла по Мадеро к конторе Роберто Регулеса. Перед взором Роблеса Мехико открывался, как карты из разных колод, — король пик в Санто-Доминго, тройка бубен в Поланко, — от темного туннеля Мины, Северного канала и Аргентины, раскрывавшего рот, ловя воздух и свет, глотая лотерейные билеты и проспекты венерологов, до прямого и корректного Пасео-де-ла-Реформа, чуждого мелким порокам, гнездящимся в Роме и Куаутемоке с их потрескавшимися фасадами и оседающими фундаментами. Из конторы Роблес видел безобразные крыши, неказистые балконы. Он думал о бесполезном пробуждении людей, которые жили в этих домах: белесые, как глазной гной, потеки на баках для воды, рахитичные цветы в горшках… Роблес любил высовываться из окна и с невозмутимым спокойствием смотреть на не докучавшее ему кишенье голытьбы, на все фибры города, обозначенные людьми, которые проходили внизу, не имея понятия о Федерико Роблесе, наблюдавшем за ними с высоты небоскреба. Два мира — небо и навоз. По безупречной системе сообщающихся сосудов, изолированной, индивидуальной, он перемещался из обнесенного решетками дома колониальной архитектуры с каменным безе портала в автомобиль, из автомобиля — в лифт из никеля и стали, из лифта — в кабинет с огромным окном и кожаными креслами, а стоило нажать кнопку, совершалось обратное движение. «Вполне заслуженно, — думал Роблес, потирая лацкан пиджака. — Нелегкое дело отделиться от этого народа. Все это побежденные, навсегда побежденные». Он разглядывал свои розовые ногти. Этими самыми ногтями он когда-то с упорством одержимого разрывал землю в Мичоакане. Он снова устремил взгляд вдаль: туда, где висел дым над вокзалом Буэнависта, и за мост, в сторону Вилья. Глэдис Гарсиа, стоя на мосту, курила вонючую сигарету, а когда бросила окурок, он упал на крышу лачуги из жести и картона. В стороне Бальбуэны — другого полюса пыли — Габриэль сам с собой играл в расшибалочку, поджидая корешей — Бето, Туно, Фифо, — с которыми собирался отпраздновать свое возвращение. Роза Моралес обходила похоронные бюро в поисках дешевого гроба, а Хуан с запачканными кровью и вином губами ждал на столе в морге «Скорой помощи».
Читать дальше