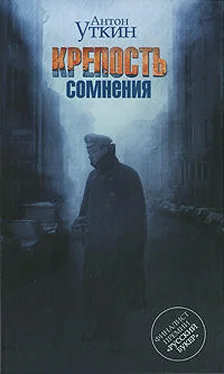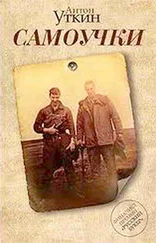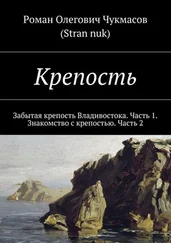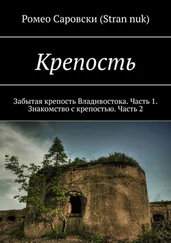Звякнули ключи. Дверь глухо и удивленно вздохнула, как всегда не обещая радости, но и не отказываясь впускать ее. Маша вошла и огляделась.
Коннетабль Бертран, надув могучие икры, взирал со стены с почтительной снисходительностью старого доброго мажордома. Уста его, чуть раздвинутые просящимся наружу словом, словно говорили: «Добро пожаловать, сударыня. Мы давно вас ждем. Милости просим. Здесь вас никто не обидит».
Черепок, не так давно забытый и оставленный Тимофеем, лежал на открытой книжной полке у хлипкого подножия «Югуртинской войны», и дуга едва обозначенной улыбки, как полоз самодельной люльки, укачивала сразу два с половиной тысячелетия.
Затаившийся мир хотел скрыться, но обнаруживал себя ежесекундно шершавыми брызгами вспорхнувшей листвы, тонким как нить протяжением автомобильного мотора и темнотой, которая сама производила мириады трепещущих таинственных звуков.
И Маше, когда она следила в темноте за Галкиным, вглядываясь в его черты, прислушивалась к его интонациям, он казался похожим то на ее отца, то на того такого далекого уже человека, который подарил ей слюдяной шар, то временами являлся ей самим собой, Галкиным, который, – она была теперь уверена, всегда был и всегда будет участником ее жизни, а как случилось так, что раньше она об этом не знала, она не знала и сейчас.
Галкин ощутил давно неслыханное вдохновение. Ему казалось, что в этих сумерках сам Бог витает между предметами, таится в складках штор, легко касается милостивой стопой мест на карте, отмеченных булавками, и уколы их остриев обращает в воздушные ласки, и, как сообщник в добром деле, лукаво с ним перемигивается. И Галкин, говоря о жизни и смерти, говорил о жизни и смерти с той же легкостью, сообщаемой ему порхающим Богом, с какой два эти слова, прикровенные многоречием понятий, призваны были ублажить разум и сердце ради того главного, что они скрывали.
– Я больше ничего не могу придумать, – неожиданно для себя самого оборвал он себя и глянул в окно, где, розовея от предрассветного стыда, продолжали отплясывать электрической киноварью пунцовые буквы.
– А, – сказала Маша без всякой интонации. – Не верю.
Он привлек ее к себе; глаза ее влажно блеснули, и он увидел, как стоит в них жизнь – так же широко, как два месяца тому назад широко шагала зима к северу от Москвы, широко переступая заснеженные крыши, дымы, которыми курилась студеная земля, похолодевшие сосны с нежными на ощупь стволами и липы в буклях инея у церквей, под которыми криво взрастали из земли каменные надгробия поэтов в военных сюртуках. И увидел себя самого и своего веселого сегодня сообщника, хмельного душистым и летучим всемогуществом.
* * *
Лето расположилось в Москве навсегда. Оно завоевало этот город, город пришелся ему по душе, и оно решило остаться. Эмаль небосвода неуклонно струилась вниз, лизала крыши горячим дыханием, стекала на изнемогающий асфальт, томила печным дыханием, обдавала душно и крепко.
Глядя из окна на улицу, Тимофей почему-то вспомнил, как лет десять назад в такой же забитый тополиным пухом полдень он пришел в магазин за хлебом, а продавец – по виду отставной интеллигент – почему-то любезно, вкрадчиво спросил: «Вам „Пшенички“?» Почему-то это.
Вернувшись с Кавказа, он до сих пор пребывал во власти довольно противоречивых чувств.... Образ флегматичного Завады надолго остался для него символом потерянной мечты. Впрочем, разочарование его не было столь велико, чтобы как-то решительно менять мировоззрение, разве что было еще досадней, что противогаз утратил некоторые свои известные свойства. Просто теперь ему стало окончательно ясно, что надеяться больше не на кого и спасаться поэтому надо и предстоит самому, и в этом он предвкушал какую-то сладкую отраду. Но все же было немного грустно оттого, что академики не оправдали надежд, возложенных на них легкомысленным телевидением, пусть даже и при том, что сами об этих надеждах ничего не ведали.
Вероника наконец-то перестала отвечать на его звонки, впрочем, звонок такой был всего один, но глубже он решил не падать и оставил ее в покое. Теперь, когда он вышел из любовной битвы и остыл от горячки боя, все произошедшее с ними стало ему ясно. Просто однажды на пашне своей страсти они увидели росток любви и оба от испуга и с непривычки стали яростно топтать его, стремясь погубить. Какого цвета любовь? Похожа ли она на клейкую травинку, на саженец или, может быть, на цветочную луковицу? Какое-то время ему не удавалось пожелать ей добра, но все-таки это получилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу