* * *
Накануне Палашка на полчасика сходила в поле к своей замужней подруге Верушке. Она долго плакала, уткнувшись в холщовый передник. Вера, сидя на овсяном снопе, гладила Палашкино темя, уговаривала:
— Сходи ты, сходи в Залесную… не плакай… Он, дурак, где лучше тебя найдет? Отворотили, видать, его от тебя.
— Отворотили… — Палашка готова была уже завыть в голос. — Знамо, отворотили… Как надругался, так и глаз не показывает…
— А ты беги в Залесную-то! Тамошние знатки, поди, не чета тутошним. Баушка тамошняя опять приворот сделает, беги, не затягивай…
Палашка ушла с полосы успокоенная и всю ночь не спала, смекая, что к чему. Еще затемно она тихо собралась в своей половинке. Завязала в кончик платка четыре серебряных советских полтинника, надела новую пальтушку с воланами. Марья обо всем узнала еще в то проклятое утро. Сперва она схватила было ременные вожжи, но, хлестнув кое-как по толстой Палашкиной заднице, руки ее опали, будто повесма. Мать с дочкой упряжку ревели в бане. Марья тоже посылала Палашку к залесенскому знатку…
Но в Залесной жил не один знаток, там, считай, полдеревни, все знатки. Выбрали баушку Миропию-прогонную.
Палашка летела болотом бесшумной сорокой. Ноги ее мелькали в кочкарнике, руки вскидывались будто от ветра. Ни одна ветка не хлестнула по раскрасневшемуся лицу. Рассветный туман еще плавал над озером, когда девка тихонько уселась в отцовскую лодку. Припомнив Николу-угодника и перекрестившись, она переправилась на залесенский берег, спрягала в мох весло и побежала к деревне.
Не однажды в темные, обычно грозовые ильинские ночи они гуляли с Верой в этой деревне. Были тут и дальние родственники, которые гостились с Мироновыми, но сегодня Палашка тайно, задами, обогнула знакомую загородку. Косые плотные изгороди стояли вокруг чуть ли не в рост человека. Слегка пригнувшись, Палашка незаметно вышла к прогону, где на отшибе стояла высокая, безо всяких пристроек изба Миропии. Палашка без памяти, но быстро, бесшумно и ловко оказалась в темных сенцах. Нащупала скобу и потянула. Двери заскрипели, казалось, на всю округу…
В почти пустой и довольно обширной избе пахло чем-то печеным, то ли калачами, то ли шаньгами, на коричневых стенах тут и там висели какие-то корни, пучки ромашки, зверобоя и других неизвестных Палашке трав.
Она стояла у двери, забыв поздороваться, сердце екало все чаще и чаще.
— Вижу, вижу, матушка, пошто ты пришла, вижу, девонька, знаю… — услыхала Палашка будто сквозь дремоту и разглядела широкую в кости, но совершенно сгорбленную старуху. — А зря ты и пришла, девонька, зря, золотая. Приворотила его иная несметная сила, силушка злая.
— Ой, баушка…
Палашка охнула и вся затряслась, пытаясь поклониться старухе в ноги, но та проворно подхватила ее под руку:
— Что ты, матушка, что ты, милая, встань! Ну-ко вот иди да сядь на лавоцьку-то. Сядь да и не реви, здря ты и ревишь об ем. Пошто он тебе экой-то? Вижу, чую твое серчо, знаю, цево на уме…
Девка напряженно вслушалась в слова старухи, утерлась и глубоко вздохнула:
— Подсоби, баушка… Век буду бога молить.
— Чем пособлю-то, матушка? Не под силу мне… Пришли, девушка, коротенькие времена, подвинулись с мест челые чарства. Ты не Евграфа ли Миронова доци?
— Евграфа, — отозвалась Палашка, развязывая кончик платка с полтинниками.
— Вот, девонька, и не развязывай, отступись… Оставь при себе денежки-ти. Не надобны.
Палашка едва не взревела в голос. Старуха Миропия-прогонная дважды погладила ее по голове своей сухой и холодной рукой. Потом шепнула на ухо: «Не реви-ко, постой». Проворно сходила в сенцы, видимо, запереть ворота, перекрестилась и, шепча что-то свое, ушла в куть, за перегородку.
Долго сидела девка одна, ни жива ни мертва, вздрагивая и различая непонятный шепот, глотая горловые комки. Наконец старуха вышла из кути:
— Худо, милая, дело-то, худо. Ну, да уж попробую, что и будет… Ну-ко, с богом. Закрой глаза да полетай домой-то, все к ему. Как звать-то, Миколаем, поди?
Палашка кивнула. Старуха накрыла ее передником, заговорила, где громко, где сильным шепотом:
— Встану я, раба божия Миропия, благословясь, выйду из избы до двери, из дверей во чисто поле, перекрестясь, утренней росою умоюсь, светлой зарею огляжуся, красным солнчем утруся, светлым мисячем подпояшусь… Отычусь я мелкими частыми звездочками. Гляну я, раба божия Миропия, на сторону восточную, ты откройся, восточна сторона! Пораздвинь черное оболоко и оболоко белое, пусти меня, рабу божию Миропию, к морю и окияну… На море Это когда прикрыли? Ее и не прикрывали. Ну а машинное товарищество? А потребиловка? — окияне подойду я к бел-горюць каменю Алатырю… Под тем каменем сокрыта могуцая сила, нет этой силе могучей конча. Выпущу я эту силу на добра молодча Миколая, на все суставы и полусуставы, на костоцки-полукостоцки, на жилы и полужилы, напущу эту силу к ёму в ясные оци, за румяные щеки, в белую грудь и во ретивое серчо, в руки и ноги… Будь ты, сила могуцая, с Миколаем добрым молодчом неисходно, жги ты, сила могуцая, ево кровь горецюю, ево серчо кипуцёё на любовь ко красной девиче Палагие Еграфовне…
Читать дальше



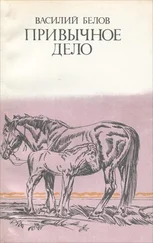

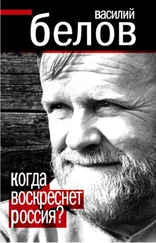
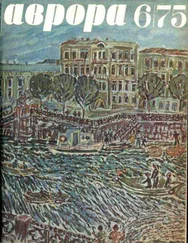

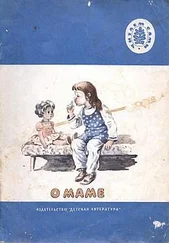

![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
