Я понимаю, что так говорить не очень принято, но я всегда, даже до этого случая считал, что определенные этнические группы склонны к определенным видам поведения или, что, может быть, несколько точнее, от природы снабжены определенными характеристиками. Немцы и японцы, например (не думаю, что это можно всерьез отрицать), органически предрасположены к особому виду утонченной жестокости, французы – к некоторой обаятельной лени, которую они умудряются выдавать за томность, русские к алкоголизму, корейцы к угрюмости, китайцы к скупости, англичане к гомосексуализму. А вот иву’ивцы отличались активным интересом и склонностью к беспорядочной половой жизни. Примерно через неделю после того вечера я брел в глубине леса, одолеваемый скукой и некоторой клаустрофобией после многих часов в деревне, и увидел мальчика из той хижины с одним из подростков-копьеносцев. Старший мальчик стоял, прислонившись спиной к дереву, а младший делал ему минет. Естественное предположение (которое, разумеется, сделала Эсме, когда я позже рассказал об увиденном ей и Талленту): младший мальчик, значит, какой-то юный раб для сексуальных утех. Но я не думаю, что дело было в этом. На протяжении месяцев, проведенных в деревне, я наблюдал вокруг всепроникающую сексуальную свободу и открытость, которой, как ни удивительно, раньше не замечал: я видел, как пары (мужчины с женщинами, но и другие сочетания тоже) уединялись в хижинах и в лесу, как дети всех возрастов ласкались с другими детьми, но и со взрослыми тоже. До Иву’иву мне никогда не приходило в голову, что детям могут нравиться сексуальные отношения, но в деревне это казалось совершенно естественным, да и было таким.
Но вернусь к церемонии. Как только она закончилась, я поспешил к Талленту, который читал при драгоценном свете фонаря, светившего на одну из его записных книжек, и постарался шепотом рассказать ему об увиденном. Как я уже отмечал, зачастую мне нелегко было читать эмоции на лице Таллента, но на этот раз все обстояло просто: я увидел изумление, недоверие, отвращение, возбуждение, зависть, и каждая эмоция сменяла предыдущую аккуратно и полностью, как картинки на слайдах.
К сожалению, на середине моего рассказа проснулась Эсме, и мне пришлось описывать весь эпизод заново. Разумеется, она приняла эти сведения в штыки, в сущности, обвинила меня во лжи, голос ее звучал все громче и громче, и в конце концов Таллент был вынужден ее одернуть.
– Ну не верю я, – прошипела она (мы все говорили шепотом, чтобы не разбудить сновидцев). – Никакого намека на такое поведение не было, никакого жестокого обращения с детьми, никакого…
– Так в этом и дело, – сказал я ей. – Это не жестокое обращение. Мальчик был потом в полном порядке.
Она фыркнула.
– То есть вы утверждаете, что мальчик, которого только что изнасиловали девять мужиков…
– Да черт возьми, вы ж не слушаете! – рявкнул я в ответ. – Они его не насиловали. Его родители сидели рядом. Это не было насильственное действие.
– Да оно по самой своей природе насильственное, Нортон! Какая разница, были там родители или нет!
В общем, это был очень скучный разговор, который бесконечно тащился по кругу и мог бы продолжаться дальше, если бы наблюдавший за нами Таллент не положил ему конец обещанием наутро поговорить о случившемся с деревенским вождем.
Он сдержал слово. Вождь сообщил, что я увидел обряд под названием а’ина’ина, которого удостаивается каждый мальчик по достижении маку о’ана. Смысл церемонии в том, чтобы обучить мальчиков сексу, а кто лучше научит мальчика, чем другой мужчина? И как помочь мальчику избавиться от предподростковой агрессии и тревоги, если не указать ему дорогу к мужским занятиям? Для девочек нет аналогичного ритуала, потому что они меньше сосредоточены на сексе и считается, что сексуальное обучение им нужно в меньшей степени, чем мальчикам. Вождь пригласил нас на следующую а’ина’ину, которая должна была состояться на четвертую ночь. Это очень необычно, сказал вождь, чтобы у двух мальчиков восьмые о’аны пришлись так близко друг к другу, но в этом году получилось так.
Объяснение вождя касательно а’ина’ины показалось мне совершенно разумным. У Эсме, конечно, было иное мнение. Что думал Таллент, я не понимал. Но через три дня мы все вернулись к девятой хижине и смотрели, как другого мальчика, немножко более тихого и в целом не такого привлекательно живого, как предыдущий, у входа приветствовал вождь и ввел его внутрь для обряда. И хотя все было точно так, как я описал – гул, пение, горящий костер, покорность мальчика, папоротниковый венок, – Эсме решительно отказалась говорить об этом. Она протопала к нашим циновкам, как разъяренный подросток, и, окажись там какая-нибудь дверь, она бы с грохотом захлопнула ее за собой. А тут она упала на циновку, повернулась на бок и притворилась спящей, хотя той ночью меня дважды будило ее приглушенное хныканье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
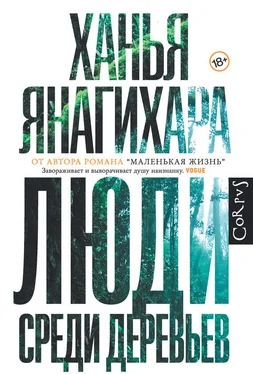



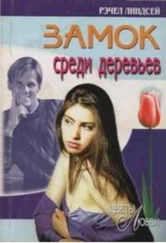


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



