Мужчины каждый день ходили на охоту. Половина охотников оставалась в деревне, полируя копья, разговаривая друг с другом и поглаживая своих вепрей, а другая половина исчезала в лесу, и их вепри следовали за ними среди деревьев. Глядя, как они возвращаются со своей добычей – которая всегда оказывалась мучительно неопределяемой, потому что они свежевали животных сразу и приносили туши, уже разделенные на большие неровные куски, – я всегда удивлялся, что мы на острове. Кроме ручья, слишком мелкого для чего угодно, кроме косяков мелкой рыбешки, вокруг не ощущалось никакой воды, не ощущалось моря. Конечно, оно нас окружало, но я не представлял, что об этом знают деревенские жители: думают ли они о нем когда-нибудь, есть ли у них хоть какой-то связанный с ним опыт, были ли в местной истории времена, когда они обращались к нему ради еды или странствий [40].
Из всех животных они ценили только вепря, но даже к вепрям относились без пиетета. Несколько десятилетий спустя, познакомившись с разными удаленными и отсталыми цивилизациями, я научился распознавать животных, украшения и обряды, которые их мистически объединяют, как будто все эти сообщества отовариваются в каком-то запрятанном в джунглях супермаркете, предназначенном исключительно для первобытных народов. У всех, например, были бусы того или иного сорта, изношенные, обменянные, у всех были какие-то украшения на теле и, наконец, у всех были собаки – нечесаные, голодные, косматые создания, тощие или очень тощие, все до одной туповатые от вымотанности, небрежения и постоянного легкого недоедания, которое никогда толком не прерывалось. А в этой деревне не было собак (как, впрочем, и украшений на теле), и если вдруг животное притаскивали живьем (обычно когда размер или количество добычи не позволяли охотникам убить и расчленить ее самостоятельно), на него моментально нападали, убивали и разделывали. Однажды принесли ленивца, привязанного за лапы к охотничьему копью. Он был такой огромный, что двое мужчин, державших копье, были вынуждены положить его себе на головы, а не на плечи, и все равно спина ленивца волочилась по земле, и его серебристый мех оставлял в пыли печальные и изысканные следы. Мужчины, шатаясь, добрались до мясного склада, остановились за ним там, где грязь давно приобрела ржавый цвет, и набросились на зверя с ненужной, как казалось, яростью и силой, наугад втыкая копья в шкуру, а группа помощников тем временем избивала его тупыми концами своего оружия. Ленивец не сопротивлялся, просто лежал на боку, с по-прежнему связанными ногами, и, как котенок, испускал тонкие всхлипы, которые, видимо, никого кроме меня не трогали. После того как его радостно забили до смерти, к мужчинам присоединились женщины, и они совместно содрали шкуру – ее, отделанную жемчужно-атласной жировой изнанкой, швырнули вепрям, которые немедленно подтянулись и принялись чавкать, – а тушу разрубили на куски, завернули их в свежие листы пальмы и банана и сложили в мясную яму. Все это делалось сосредоточенно, не то чтобы просто с удовлетворением, но и не то чтобы с ликованием, а потом все почистили руки, и женщины занялись готовкой.
Но если с животными они обращались без сентиментальности, по отношению к своему собственному существованию они были сентиментальны. Меня снова и снова изумляла миниатюрность их общества, я думал, каково это – жить так, что всех, кого ты знаешь, кого в жизни видел, можно пересчитать по пальцам. Но хотя общество это и было маленьким, назвать его неполноценным было нельзя никак: каждый ритуал, известный цивилизации тысячекратно большей, тут тоже использовался. Иногда вообще казалось, что правил и ритуалов тут в избытке, чтобы возместить нехватку людей, которые должны в них участвовать. Жизнь – причем короткая – разворачивалась как ряд ярких и буйных церемоний, как барабанный бой обрядов, отмечающих события и рубежи, которые в более тесном и занятом обществе считались бы обычными делами, заслуживающими в лучшем случае упоминания.
Например, каждый месяц проводилась церемония, отмечающая начало женской менструации, а другая отмечала завершение цикла. Половой акт тоже чествовался. Когда я впервые увидел, как мужчина и женщина вдвоем ушли в хижину, вся деревня принялась дико улюлюкать, а дети – был очень поздний час – подняли лохматые головы и стали озираться сонными глазами. Пару это нисколько не смутило, и, закончив, они вышли из хижины под продолжающееся улюлюканье, расстелили свои циновки и заснули. В первые несколько недель, проведенных в деревне, я наблюдал празднование первых младенческих шагов (кстати, это была та самая кроха, которая любила запихивать в рот что-нибудь опасное), вручение мальчику первого копья, день рождения девочки, отмечание прихода охотников из леса с целым, кажется, поколением вуак, плакавших и визжавших в толстом самодельном мешке из пальмовых листьев, который тащили двое мужчин, и еще одну церемонию, смысл которой я разгадать не смог, когда четверо мужчин и четыре женщины беспорядочно плясали (точнее, подскакивали) вокруг костра, прижимая ко лбам оскалившихся существ вроде ящерицы, тех, что я видел в хижине с сушеными продуктами, а потом швырнули их в пламя – а остальные торжественно наблюдали [41].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
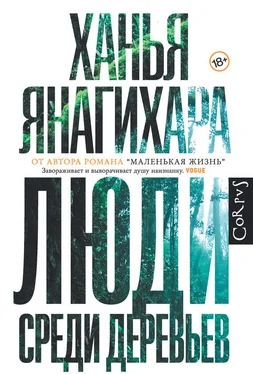



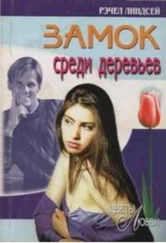


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



