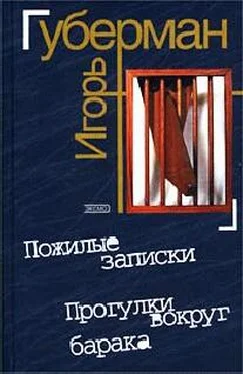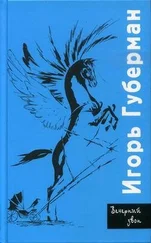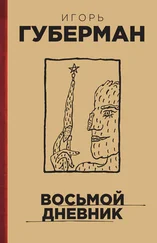Тихо пел, чуть высунувшись из-под нижней лавки и опершись головой на руку, тот несчастный парень-педераст. Голос был изумительный — нет, я не разбираюсь в певческих голосах, просто слушать было приятно, он был очень под стать песне.
Я перебрался через спящих и спрыгнул вниз. Он, увидев меня, насторожился, замолчал, но не спрятался — уже чувствовал, очевидно, и безошибочно различал людей по степени опасности для себя. Я попросил спеть песню с самого начала и впервые увидел на его лице слабую улыбку. Она очень красила и очеловечивала его, у большинства петухов — не лицо, а неподвижная маска. Настороженность, зачумленность, страх. Он запел. Очень негромко он запел, но постепенно просыпались наши попутчики. Когда один из них сказал что-то унизительное в его адрес, я резко оборвал, мог такое себе позволить, в клетке нашей ехали старые мои приятели по этапам. Больше ему не мешали петь.
Уже не помню, о чем он заговорил, — кажется, пожалел, что нет гитары. Я спросил его что-то, он ответил. Очень здраво, очень спокойно. Мельком вспомнил о друзьях, они на выпивках всегда просили его спеть. Что-то он сказал еще, оживился, на мгновение потеряв свою опасливую скованность, и я вдруг ясно увидел, что еще совсем недавно он был душой компании, его любили, все было ясно и привлекательно в его судьбе. А после — кража. Случайная, мелочная, глупая. Два года. Где и как он споткнулся в тюрьме, как попал в Смоленск, отчего начались побои, которых он не смог выдержать? Я бы спросил его об этом, будь мы вдвоем, но сейчас мне стало его жаль: неминуемы были бы насмешки над ним и издевательства, а могли вдруг проявиться обстоятельства, за которые снова его начали бы здесь бить, а такое я не мог остановить, по тюремному канону был не вправе. Так что я его толком не расспросил. А он вскоре с чуткостью всех гонимых и ущемленных понял, что уже достаточно, и молча нырнул под лавку глубже. Я еще покурил немного, дав сигарету и ему — с бережностью он взял ее, стараясь не коснуться моих пальцев — это строжайше запрещено касте петухов, и курил, блаженно и небрежно откинувшись головой на грязный пол вагона. Мы молчали оба. Я все время думал о нем, сочиняя себе его прошлую жизнь и соображая с ужасом, что помочь ему ничем не могу — эти люди обречены. Если он, даже приехав куда-то, где никто его не знает, скроет свою тюремную масть, это рано или поздно обнаружится, неисповедимы пути связи между лагерями. А тогда наказание неминуемо — коллективная расправа с очень частым смертельным исходом, видел я такое позже сам. Я кивнул ему головой ободряюще и благодарственно и полез к приятелям наверх.
А часов через семь-восемь был уже Челябинск, встречающий нас конвой, сидение на корточках, собаки, автозеки и тюрьма постройки годов двадцатых. То ли белые ее строили для красных, то ли красные для белых, как сказал мне спрошенный надзиратель. Нас, как водится, загнали в отстойник, где часа три-четыре предстояло нам дожидаться, пока нас обыщут, сводят в баню и рассортируют по камерам, и этап наш, тесно сгрудившись, заполнил отстойник до отказа. Но в углу все же нашлось место — группа молодых парней его собой оградила, стоя бок о бок спиной к остальным, и туда проходили по одному. Кто блудливо и косо ухмыляясь, кто деловито нахмурившись. Цепь стоявших размыкалась время от времени, и один раз я увидел своего попутчика-певца. Он стоял в углу на коленях, опираясь спиной о стены. Мне, естественно, бросился в глаза его рот с ярко-красными воспаленными губами. Я отвернулся и протиснулся ближе к воздуху, текущему сквозь решетку. Больше я его уже не встречал.
* * *
Кстати, там же, в Калужской пересылке, познакомился я с замечательно интересным человеком — очень жаль, что быстро мы с ним расстались. Вообще, отстойник в тюрьме — одно из самых примечательных мест. Это огромная камера, только нар в ней нет, и туда запихивают всех подряд, прибывших по этапу — чтобы через несколько часов распределить в камеры по режимам: общему, усиленному, строгому. Это разделение по режимам принято, очевидно, чтобы опытные преступники не воспитывали начинающих. Глупо, все равно ведь в камерах при милиции все сидят вместе. А бывалые как раз куда лучше держали бы дисциплину в камерах — благодаря своему опыту. Но начальственная мысль не дремлет, и все режимы варятся в собственном соку. А в отстойниках есть возможность пообщаться.
Правда, связана она с риском, эта возможность — обособленными группками держатся этапы, опасаясь за свой нехитрый скарб, за остатки продовольствия, просто боясь попасть в непонятное. Я, когда удавалось, с радостью общался с теми, кого более уже не встречу, как понимал. И в Калужской пересылке, подойдя к группе строгачей с просьбой посмотреть роскошную самодельную доску для игры в нарды (не отобрали почему-то), встретил я Эдика Огородникова. Он, точнее, сам ко мне придвинулся, когда я сел рассматривать доску.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу