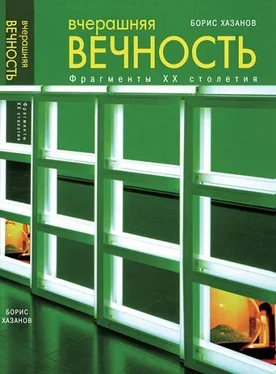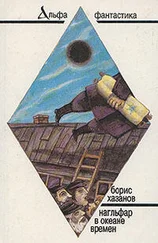«Вот я и есть эти немногие. Тебя это действительно интересует?»
«Интересует».
«А по-моему, ты каким был, таким и остался!»
«Каким?»
«Чужим. Ты никогда меня не любил».
«Как и ты меня».
«Я?» — удивился гость.
«Конечно. И ты, и мама — вы оба меня не любили».
«Почему ты так думаешь?»
Сын пожал плечами.
Помолчали; должно быть, отец угадал мысли сына.
«А кстати, — проговорил он, — эта дворянка, что с ней стало?»
«Умерла».
«А, ну да, конечно…»
Снова пауза.
«Между прочим, — сказал отец, — у тебя могла бы быть сестричка».
«Сестричка?»
«Мама была беременна».
«Вот как».
«После аборта долго болела, ты этого, конечно, не помнишь… А может, и к лучшему, что не родила».
«Да, — сказал сын. — К лучшему».
Пауза.
«Где она лежит? Всё равно не смогу её повидать. Ты-то хоть у неё бываешь?»
Сын пробормотал:
«Нет, я ужасно тебе рад… Просто не могу опомниться от такой неожиданности… Но всё-таки. Как тебе удалось?»
«Вот так и удалось. Я же тебе написал».
«Там слишком кратко!» — простонал писатель.
Сумрачный день, солнце, едва блеснув, заволоклось серой ватой.
XLV Или всё-таки реальное лицо?
Тот же день, продолжение
«Я поставлю чай».
«Никаких чаёв! Как произошло… Вот так и произошло, хочешь верь, хочешь нет. Ты хоть, когда война началась, помнишь?»
«Конечно, помню, — сказал писатель. — Очень даже хорошо помню этот день».
«Речь этого мудака помнишь?»
«Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет».
«Верно».
«На нём стоял рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали».
«А потом, первые недели?..»
Гость вздохнул, махнул рукой, не дождавшись ответа, как будто хотел сказать: может, и помнишь, да ничего не знаешь.
«Все записывались, — сказал он, — я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых так даже просто хватали на улице, приказ — в ополчение, и точка; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было — не у всех, конечно, у многих, — настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной».
«Почему же, прекрасно помню».
«Что ты можешь помнить… У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!»
«Ты разве читал?»
«Читал, а как же».
«Где же ты её увидел?»
«Там, где ж ещё. Увидел и купил».
«Откуда ты знал, что это я?»
Отец усмехнулся.
«Я теперь всё переписал заново, — сказал писатель. — Но они у меня всё отняли. А вообще-то не всё высосано».
«Ладно, не обижайся. Что я хотел сказать… Перед войной. Ведь что говорилось. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. Опять же эти парады. Думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни… — Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. — Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой… Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял».
«Лихо выражаешься, — заметил писатель. — Где это ты научился?»
«Научишься… Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что — хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было и быльём поросло. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Не до этого теперь. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, увиливает, кто ещё не записался добровольцем. А с другой — всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, фуражки с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше… Прямо с митинга — на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле-еле успел прибежать к вам на вокзал попрощаться. Кавардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки — сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются — знают, а заикнуться никто не смеет: паникёр — и под трибунал. Засиделся я, пора идти», — сказал отец.
Читать дальше