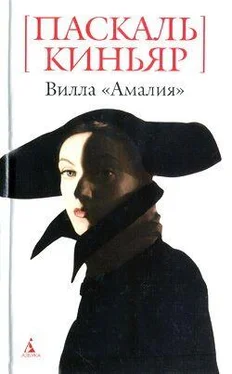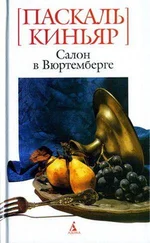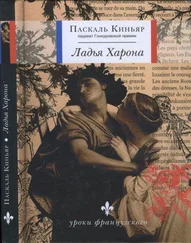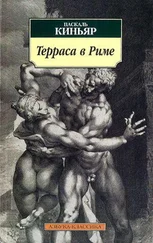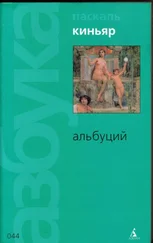Это была совсем простая боль.
Неизбывная боль, незримо стоящая за светом дня, который встречаешь поутру.
Стыдливая, она описывала круг – круг, внезапно срывавшийся в бездонную пропасть мрака и безмолвия.
* * *
Она была повсюду со своей, все более причудливой, музыкой.
Призывала утраченное.
Пианистка Магдалена фон Курцбек не отходила от Гайдна во время его последнего концерта, состоявшегося в 1808 году.
Анна Хидден опубликовала свои сонаты и трио, никогда ранее не издававшиеся, никем не исполненные, изумительные по красоте.
Выбор этих произведений, быть может, объяснялся некой скрытой причиной. Но Анна как будто не замечала этого. Она говорила:
– Похоже, Магдалене фон Курцбек нравилось передавать другим то, что она любила сама. Так она подарила им Гайдна. Вот и я, в свою очередь, люблю дарить людям давно забытое.
И еще она сказала одной американской журналистке:
– В пчелином мире рабочие пчелы, взрослея, изменяют свой статус. В первые дни они трудятся как чистильщицы, потом как кормилицы, потом, на второй стадии взрослой жизни, строят восковые соты, а дальше, до самой смерти, добывают мед. Я тоже к старости превратилась в добытчицу меда.
* * *
Она сочиняла песни, все более странные, все более обрывистые, полные длинных пауз, рождавших нервный, «рваный» ритм, который добавлял элемент необузданной силы к той печали, что пронизывала все ее произведения.
* * *
Гуго Вольф [19]благоговейно отмечал в своих нотах день и час, когда у него рождались первые предвестия очередного творческого замысла. Например: восемь часов, воскресенье, 5 июня, в моей спальне.
Или: понедельник 12-го, в тринадцать тридцать, на прогулке в лесу.
* * *
Анна Хидден:
– Музыка образуется во мне без помощи инструмента, большей частью когда я стою, высоко подняв голову и крепко сжав губы; она звучит в замкнутой пустоте рта, во всем пространстве верхней половины тела. И, подобно оргазму, музыка захлестывает вас с головой. Все, что написано за инструментом, или с помощью инструмента, или с оглядкой на инструмент, подчиняется лишь тому, что способен выразить данный инструмент, ограничено его возможностями и перестает быть музыкой. И утрачивает суть. Остается некий перформанс инструмента. Любой инструмент уводит от главного. Даже человеческий голос, в качестве инструмента для исполнения арий, лишает музыку смысла, уводит от нее.
* * *
Как только устанавливалась ясная погода, она уходила гулять.
Иногда, возвращаясь к полудню из булочной, Жорж видел, как она стоит на набережной, прислонившись к парапету или наклонясь вперед; погруженная в размышления, еще не отрешившаяся от утренней работы, она не удостаивала взглядом бегунов, которые с пыхтением проносились мимо.
И точно так же не замечала она бегунов час спустя, когда они бесконечной вереницей дефилировали по бульвару, еще более грузные, еще более зловонные, красные, потные, взбудораженные и безобразные до тошноты.
Когда она возвращалась домой берегом Йонны, Жорж это сразу замечал, так как она оставляла на плитах пола мокрые следы.
* * *
Жорж таскал дрова. Или ходил с лейкой. Или нес молоток, гвоздь, моток проволоки. Или орудовал секатором.
И при этом бормотал себе под нос:
– Господин регент ждет свои дрова, свой грог, свои свечи.
Он отощал вконец и стал невесомым, как кузнечик. У него выпали все волосы. Из-за лекарств, которые он принимал, его речь сделалась замедленной, вялой, невнятной, прерывистой.
– Элиана, мне хочется, чтобы ты разделила со мной – официально, демонстративно, насколько это возможно, – последние часы моей жизни. Я лично был бы несказанно счастлив, если бы все окружающие считали тебя самым дорогим для меня существом на этом свете. И тогда я смогу умереть спокойно.
– Типун тебе на язык, Жорж! Спасибо, конечно, но, по-моему, ты чувствуешь себя значительно лучше. И я тут, с тобой.
– Элиана…
– Прекрати, Жорж! Раскрой глаза пошире: я здесь, с тобой. Целиком и полностью. Живу тут. Плачу тут налоги. Мы с тобой живем бок о бок. И это все замечательно.
Она объясняла ему:
– Я больше не желаю ничего принимать от других. Не хочу больше ничего ждать от других. Не хочу больше зависеть от кого-нибудь другого.
– В тебе слишком много гордыни, Анна. Ты невыносима. Вот что я тебе скажу…
– Да?
– Ты очень уж неуступчива.
– Верно. В школе, когда я была маленькая, вы с Вери вечно кололи мне глаза моей гордыней. А теперь ты опять пристаешь ко мне с этим, вот уже три года.
Читать дальше