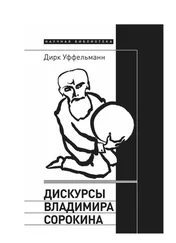– Где же он? – тихо спросил я.
– Его вчера ночью кремировали. – Его жена так сжала ему руку, что мне стало понятно, что он этого не одобряет. Уолтер Пикл спрятал комок жевательного табака, который лежал у него за щекой, в пестрый платок, и громко сказал, видимо, забыв, что мы находимся в церкви.
– Сегодня утром я видел, как миссис Лэнгли высыпала пепел в пруд у лесного домика.
Первой из клана Осборна вошла в церковь его жена. Она остановилась в проходе, чтобы дать всем полюбоваться на ее черный костюм из кашемира, на который была наброшена накидка из стриженой норки. Теперь она была больше похожа на обыкновенную старушку, чем на Круэллу да Виль, какой я ее помнил. Потом она, словно поддразнивая толпу, повернулась ко всем спиной и бросилась к кому-то – к кому, я не видел. К Брюсу? Нет, ее появление на публике было бы менее грандиозным, если бы она не подхватила под руку Майю.
На ней была надета бархатная шляпа, больше напоминавшая тюрбан, и двойная нитка жемчуга, которая, как я видел на фотографиях, раньше украшала ее мать, и платье цвета ночного не ба. Волосы у нее были влажные. На чулке была стрелка, и этикетка, на которой было написано имя модного дизайнера, высовывалась из-за выреза на шее. Она побледнела и похудела с тех пор, как мы виделись с ней в гостинице «Плаза». Губы она небрежно намазала красной помадой. В общем, Майя была похожа на дорогую куклу, которую наряжали в спешке.
Я наклонился вперед, чтобы она меня увидела. Но она в мою сторону даже не смотрела, хоть и прошла рядом. Майя смотрела прямо перед собой, словно видела там что-то, чего не мог видеть я. Когда они с бабушкой проходили между скамьями, шепот стихал. Миссис Осборн останавливалась почти у каждого ряда, чтобы подать свою украшенную многими каратами руку кому-нибудь из особо важных персон – словно спортсмен, который проделывает круг почета. Оставалось только победно помахать рукой. После того, как она остановилась в четвертый или пятый раз, чтобы триумфально принять очередные соболезнования, я увидел, как задрожала нижняя губа Майи. Она закрыла лицо руками, чтобы никто не видел ее слез, и прошла через проход, не дожидаясь своей бабки, а потом, без сил опустившись на кресло в ряду, на котором должна была сидеть ее семья, громко зарыдала. Вице-президент наклонился к ней и потрепал ее по плечу – словно погладил бездомную собаку. Толпе это, кажется, понравилось.
Мистер Лэнгли в одиночестве прошел по церкви. В своем траурном, безупречно сшитом черном костюме он выглядел очень элегантно. На его лице то появлялась, то исчезала неуверенная улыбка, похожая на сломанную лампочку. По всей видимости, он не совсем понимал, где он – то ли на похоронах, то ли на свадьбе, но, во всяком случае, ему было весело.
А мне нет. Во рту у меня пересохло, и я стал глубоко дышать, ожидая, что вот-вот в церкви появится Брюс, толкающий перед собой инвалидное кресло, в котором будет сидеть его мать. Да что они там делают? Может, они задерживаются потому, что им не удается вытащить кресло из лимузина или втащить его вверх по ступенькам? Когда миссис Лэнгли, наконец, появилась в дверях, прихожане испуганно замолкли. Она пришла на своих двоих – ни инвалидной коляски, ни даже трости ей не понадобилось. На ней была надета довольно короткая юбка. Темные колготки скрывали ожоги на ее ногах. Миссис Лэнгли передвигалась очень медленно, так что могло показаться, что она парит в воздухе. На ее голове была шелковая шляпа с широкими полями, которую она надвинула набок, так что вуаль скрывала шрамы и участки с пересаженной кожей, из-за которых половина ее лица выглядела так, будто побывала на колоде мясника. Впрочем, улыбалась она сейчас совершенно так же, как и раньше.
Епископ взобрался на кафедру и провозгласил: «Давайте помолимся». Я все это время высматривал Брюса, хоть и стоял на коленях.
Когда мы все поднялись, чтобы пропеть первый псалом, дубовая дверь церкви открылась, и кто-то прокрался внутрь. Мне было трудно разглядеть, кто это. Но Брюс был где-то рядом с нами – я это чувствовал. Мама обняла меня одной рукой, и стала напевать слова гимна мне на ухо. Вице-президент начал читать Новый Завет. Каждый раз, когда он говорил «Иисус», звучало это так, словно он только что ударил себя молотком по пальцу. Потом мы встали еще раз, чтобы пропеть «Прекрасны и славны дела твои». Люди зашумели, зашаркали ногами, кто-то уронил псалтырь. Следующим номером программы должен был быть Брюс.
Вряд ли кто-либо удивился больше меня, когда он ожил на экране телевизора, стоящего у алтаря, а не вскочил на кафедру.
Читать дальше