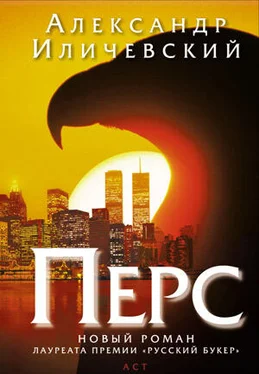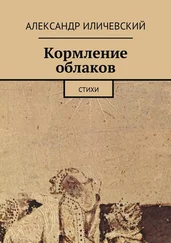В Саратове я загулялся по вокзалу, вскочил на ходу и попал в хвостовой вагон, необъяснимо полный полуголых подростков со страшными шрамами после операций, санитарный, что ли, поезд?! Никак не мог понять — откуда они все? Скопом едут в какой-нибудь северокавказский санаторий? Шрамами подростки красовались как единственным имуществом, как татуировкой — выставляли напоказ. Запомнил пупок, разрезанный и сросшийся неправильно, перекошенно, будто новая жизнь привалила белобрысому долговязому подростку, всматривающемуся в диспозицию магнитных шахмат на ладони.
Миновали Астрахань, щедрость степного простора, теплый ветер. В обнимку с копченым сазаном (распластанные слитки прозрачного мяса и жира, строй ребер, позвоночника) заполняю таможенную декларацию. В окне тянется прорва волжской воды, тихо, грозно идущая река. В Сталинградскую битву раненых грузили на плоты и пускали вниз по течению, так выводя из-под бомбежки, в надежде, что кто-то их подберет. К ночи наступала тишина, солдат не замечал, отчего так тихо — то ли от смерти, то ли далеко отплыл от боя, — а на рассвете плот тихо входил в лабиринт дельты, просыпались птицы, и над остановившимися зрачками солдата всходило нежное солнце. В его взоре беззвучно стояло то, что светилу открывалось постепенно выше по течению: месиво из железа, земли и человеческой плоти.
В Кизил-Юрте ошалевшие и одновременно сурово сосредоточенные дагестанские менты ходят по перрону, держа палец на курке «калаша». Быстрым шагом, срываясь на бег, заглядывают под днище вагона, вспрыгивают на подножку, расталкивают всех на пути, здоровенные лоси, грубят, как деды новобранцам.
Я курю, и в голове вдруг возникает стишок: «Ну-с, урус, снимай-ка свой бурнус!»
В детстве в Баку поездом было два пути: через Гудермес или через Грозный.
В Грозном отец никогда не разрешал выходить на платформу, без объяснений. Грозный был единственной станцией на протяжении двух с половиной тысяч километров, которая облагалась таким налогом. Так он и остался у меня в памяти этот город: неизъяснимо грозным.
А в Дербенте было уже можно, и я вышагивал по платформе, взбудораженный морем, только что на подъезде появившимся в окне. Вверху на ослепленных солнцем отрогах Малого Кавказского хребта виднелись руины оборонительных сооружений — часть стены с башнями, некогда доходившей до самого моря. В этих естественных «фермопилах», в самом узком месте между горами и морем, Сасаниды веками успешно держали оборону от хазар.
Широкогрудые псы с обрезанными ушами заглядывали в лица пассажиров.
Через четверть века пасмурным октябрьским утром я стоял там же, под теми же руинами, и видел, как ополоумевшие от страха милиционеры мотаются вдоль состава с автоматами наизготовку, рыскают, по десять раз заглядывают под колеса, в тамбура.
Ветер выл в проводах и гнал летучий мусор: клочки, обрывки, тучи пыли; полиэтиленовые пакеты парусили пузырями, дорываясь до высоты птичьего полета.
4
Вагонная теснота: безобразие и достоинство всего человеческого, обостренность стыда и терпимость, взаимность, соприкосновение плеч, ноги в проходах, пригнуться, изнеможение. Свежесть остановок — праздник мышц, костей, ноздрей и легких. В каждом сгустке тесноты своя жизнь — концентрация телесности и человеческого вещества, словно на бойне, в очереди. Идешь по вагону, все бьет в глаза и нос, иные миры, полные человечины.
Наши соседи — военное отделение: два бойца. Бойкого коренастого мужика лет сорока пяти, в спортивных штанах и пуловере, зовут Камал. Судя по всему, в Москве он таксарил, но не говорит прямо, однако почти все азербайджанцы на чужбине или бомбят, или торгуют. Камал не торговал. Он считает, что Бог создал народы для того, чтобы все стали мусульманами. Вот он смотрит на часы, спохватывается, сгоняет меня с полки, забирается на нее с ногами и, забормотав что-то, целует себе руку, кланяется, сотворяет намаз. Солнце в окошке дрожит и покачивается над горизонтом. Весь вагон молится на нижних полках, обратясь на солнце, ползущее в многооком хребте поезда, и я чувствую себя «зайцем».
Этот Камал на поверку глубоко несчастен: два года не был дома, теперь едет отдыхать, говорит, вообще ничего целый год не будет делать, а только спать, спать, спать. Вдруг спохватывается, когда достаю китайскую вермишель: «Ай, забыл детям купить, конфеты купил, вермишель забыл. Дети у меня так любят ее, так любят, они вермишель в рот с одного конца берут и вот так делают, хлюпают, знаешь, да?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу