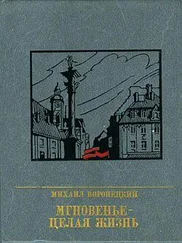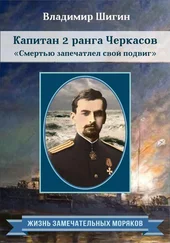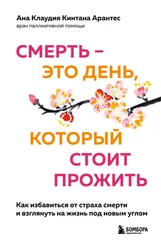Все прошло. И теперь я страшные те дни, нескончаемую боль за твою судьбу, за самою жизнь твою вспоминаю, как вспоминают годы большого счастья. Потому что тревоги — это изнанка надежды. Потому что это счастье: обладать правом на тревогу за живых.
Мне кажется, ты уже понимал, как мучаются, как переживают за тебя родные. И потом, как подрастал, все резче и резче, все явственнее обозначалось в тебе вот это: чем тяжелей самому, чем неотвязнее хворь — тем бодрее и веселей старался ты выглядеть. И всегда спешил успокоить маму:
— Ну правда же, мамача, ну верно же, ничего не болит!
Это останется в тебе навсегда — умение прятать боль. И физическую и душевную. «Казаться улыбчивым и простым…»
А сперва-то, сперва-то, едва начал ходить — не парень был, а сущая «сдриколючка». И все требовал внимания к себе. Занята мама — ты идешь в комнату к тете Тате и бабушке Сясе и заводишь:
— Баба, по-хо-дим… Татя, по-хо-дим… Похо-дим… По-хо-ди-и-им…
И так трудолюбиво, так настойчиво окал — «по-хо-о-о-дим!» — что никак нельзя было отказать. Брали за руку, и ты — аж корпус внаклон — мчался, будто заправский скороход, мчался все равно куда, лишь бы двигаться:
— По-хо-дим… по-хо-дим…
Но если уж чего не захочешь, то шабаш. Когда же настаивать пытались на том, что ты решительно отвергал, пронзительно твердил одно:
— Плехо тя-ак! Сябака тя-ак!
«Плехо» и «сябака» выражали вершину упрямства и гнева.
Но то в самые ранние годы. А как начал ходить в школу, появились мягкость и ласка. И особенно — к черному, из мятого плюша мишке. Ты укладывал его рядышком на подушку и, прижавшись щекой к нему, упоенно слушал «на соник» Гайдарову «Военную тайну», которую я читал тебе…
Все это теплая, живая земля твоего детства.
Разноцветные стеклышки в ярко-зеленой траве. Ты насобирал их полную коробку — зеленые, красные, синие. И желтые, через которые даже туча виделась солнцем. И такая разная, такая сама на себя непохожая была, если глядеть через них, земля. Непохожее небо. Синее. Зеленое. Красное. Удивительный, через мимолетные пустяки раскрывающийся мир. В нем все впервой, все открытие.
Летний день. Жарко и тихо. В огороде меж грядками солнце взапуски гоняется за рыжей двойной макушкой. А макушка нагнется к лиловому цветку на картошке, и цветок качнется, подмигнет оранжевой серединкой да тут же и заслонится другим, тоже лиловым. И пока решаешь, какой из цветков достойнее твоего внимания, мама выдернет один — медуничку. Ты удивлен, ты еще не можешь понять: за что ей такая судьба? Тоже цветок ведь…
То нырнет макушка в зеленую кипень огуречной грядки. Приподняв лопушистые листья, ты замрешь над маленьким желтым огоньком — цветком на ершистой, в колючках, крохотной завязи. И вдруг откуда-то сверху упадет на ладошку тебе алый лепесток мака. Лепесток весь в темных прожилках, он трепещет и дышит, будто погасающий лоскуток пламени. И вдруг ты сразу поймешь, чему оно сродни, это живое и нежное; на растопыренных пальцах поднесешь к глазу и прищуришься — взглянуть через лепесток на солнце. И долго-долго не можешь понять, почему это ни солнца не видать, ни неба через маковый лепесток — ведь он же такой тоненький, такой живой и красивый…
А потом сентябрь. Через рванину прорех в мокрых облаках только изредка пробрызгивает осторожным теплом на озябшую землю солнышко. Земля в огороде голая и черная. Жмутся к межам островки пожухлой ботвы. Мы докапываем картошку. Егору уже дозволено носить понемногу, тебе— только собирать. И ни одного клубня не пропустишь, всякий надобно разглядеть и с той стороны, и с этой — на что похож. И каждый — диковинка: то «кота» найдешь, то «коровью голову», то…
— Мама, папа, Гоша, глядите — гусь!
И впрямь. Здорово смахивает на жирного гуся развалистый клубень.
И зима… Теперь солнце глядится в окна, присев на корточки — еле-еле высовывается, и то самой маковкой, из-за железной крыши напротив. Ты щуришься от слепящего зимнего света, но отвести глаза невозможно, не оторваться от дива морозной росписи на стекле. Горит, переливается, манит…
И мне не оторваться от него — солнца твоего детства.
Все наплывает и наплывает самое дорогое: твои свидания с тем солнцем. В самоцветах морозной росписи на стекле. В снеговой лужице возле дома, в которую окунулось и озорует, прямо в глаза забирается. В огородной борозде, где оно припекает стриженую макушку. В пламени заката, выплеснутом на края фиолетовой тучи…
Обрывки заповедного сна, от которого жаль пробуждаться…
Читать дальше