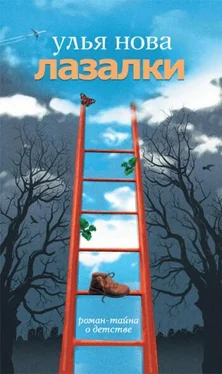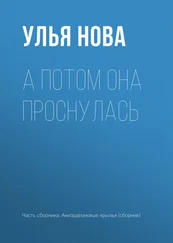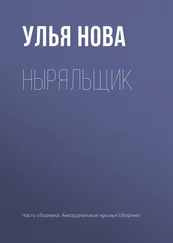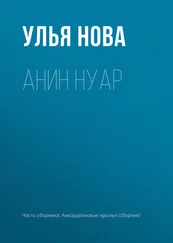После обеда мы с тетей Валей спускаемся на один лестничный пролет, туда, где между вторым и первым этажами, на стене возле окна рядком ожидают нас почтовые ящики. С маленькими и большими навесными замками. С новенькими, блестящими и ржавыми замками. Ключики от некоторых из них давно потеряны и, возможно, висят на черном кольце в большой связке дедовых ключей от чужого прошлого. В щелях некоторых ящиков белеют вчерашние, еще не вынутые газеты. У других внутри – ржавая пустота, равнодушный сумрак. Большинство ящиков – пусты, замерли в ожидании: «Правды» с телепрограммой на будущую неделю, квитанции за свет, письма из деревни, поздравительной открытки с расплывчатым синим штампом на аккуратном «Здравствуйте, дорогая…» Тетя Валя выдает мне пачку из трех писем. И я протягиваю их ей по одному, называя номер квартиры: «В двадцать третью». Письмо падает, глухо ударившись ребром о дно. Возле самого окна, с краю, ржавый, без замка, с оторванной крышкой висит заброшенный ящик Гали Песни. Я выспрашиваю, почему на нем нет замка, но тетя Валя делает вид, что не расслышала, или отмахивается, говорит: «Ну ее, это не наше дело», – вскидывает руку с часиками и вскрикивает, что ей надо скорее бежать.
Когда тетя Валя уходит, в квартире снова становится тихо и пусто. В окне дедовой комнаты полотенца и простыни покачиваются на ветру посреди двора. Но есть одно укромное место, о котором никто не знает, там можно отсидеться, спасаясь от тишины, от телефонных звонков и утешающих слов. Когда кто-нибудь начнет барабанить в дверь кулаком, а потом хрипло бормотать, переминаясь на пороге: «Нет, что ли, их?!» – самое время залезть и замереть за полами пальто в раздевалке. Тихонько прикрыв за собой дверь, чтобы никто не смог отыскать. И даже если в квартиру проникнет грибник, потерявший нож, или врач с железным биксом для кипячения шприцов и игл, им покажется, что дома никого нет. На узенькой дверке – потрепанная гобеленовая сумочка, сшитая дедом из куска ткани, оставшегося после перетяжки матраца. Мятые, растрепанные щетки торчат вперемешку с жестянками из-под ссохшегося гуталина. В раздевалке особая тишина, поблескивающая атласом подкладок, отдающая лыжными ботинками с носами-уточками для креплений. Полы синтетического бабушкиного пальто, ткань которого напоминает вафлю, пахнут улицей, исцарапанными поручнями, окошечками железнодорожных касс. На ощупь угадываются дедов плащ, который он купил сразу после войны, дождевик, бабушкина пушистая кофта птицы гнева с заплаткой на локте.
В раздевалке уютная, велюровая темнота, пропитанная бархатным запахом ссохшейся ваксы, глины и грязи, налипшей на каблуки зимних ботинок, гуталина, крема для лыж, песка перронов и переулков. Время здесь движется немного медленнее, чем во всей остальной квартире. И ожидание ширится, разрастается за пределы окраин, намекая на то, что есть другие улицы, обдуваемые незнакомым ветром. И другие дни, еще ни во что не превратившиеся, бесформенные, лишенные кривизны и трупика птицы тревоги. Есть другие дни, дразнящие где-то там и потом. Надо только дождаться сегодняшнего вечера. И чтобы скорее пришла бабушка. Как только она войдет, запыхавшись, сжимая в кулаке ручки авоськи и сумочку, с порога станет ясно: хорошо деду или нет. Потому что квартира сразу наполнится: сине-серой мутной гуашью, больничным сквозняком, несущим на крыльях запах хлорки, бледно-желтой акварелью, вспоротым драпом автобусных сидений, полукруглыми пилочками для надрезания ампул, запахом резины от коричневого жгута, которым перетягивают руку, чтобы сделать укол в вену. Надо, чтобы деда поскорее наладили, вернули в строй и выписали. Тогда, может быть, удастся найти шарик, ржавый или серебристый, возле дома летчиков и героев, в старом послевоенном дворе. Появляется азарт сидеть совсем тихо, прикинувшись пустотой, ждать вечера и прислушиваться ко всему вокруг. Серый ветер подъезда, синий сквозняк подворотен начинают рассказывать намеками и недомолвками. Издалека. Кто-то шлепает вниз по лестнице в больших тяжелых башмаках. Этажом выше еле слышно гудит телефон. Во дворе, перед подъездом, резко и нетерпеливо басит грузовая машина. Доносится удаляющаяся мимо частных избушек сирена пожарников. И где-то там, в тишине и неразборчивом шуме, среди шелеста, чириканья, завывания сквозняков, поскрипывания форточек, ударов мячей мерещатся сбивчивые шаркающие шаги старика с рюкзаком.
На пятом этаже, в квартирке, на пороге которой по вечерам отлеживался серый ветер подъезда, пропитанный запахом ступеней и папирос, жила взъерошенная некрасивая Галя Песня. Иногда она просыпалась, вспоминала, что живет в Черном городе, прижимала коленки к груди, глядела прямо перед собой. И ждала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу