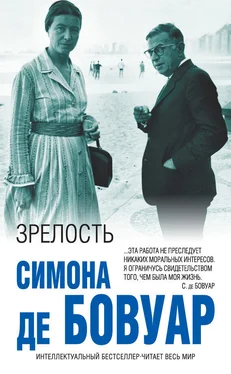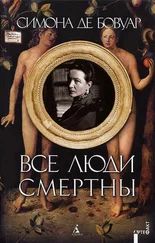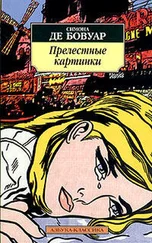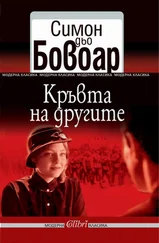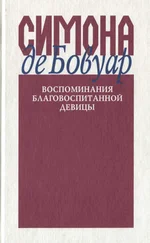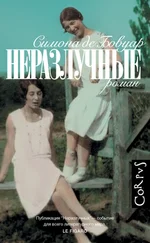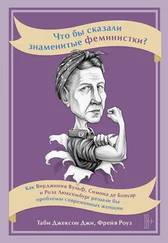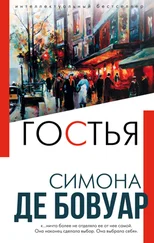В театре нас обескураживала посредственность, и мы не часто там бывали. В октябре 1930 года Бати открыл театр «Монпарнас», поставив «Трехгрошевую оперу». Мы ничего не знали о Брехте, но то, как он представил приключения Мэкки, привело нас в восторг: на сцене вдруг ожили лубочные картинки. Произведение, как нам показалось, отражало отчаянный анархизм: мы горячо аплодировали Маргерит Жамуа и Люсьену Нату. Сартр наизусть знал все песни Курта Вайля, и впоследствии мы частенько повторяли лозунг: «Бифштекс сначала, мораль потом». Мы посещали мюзик-холлы. В «Казино де Пари» Жозефина Бейкер снова выступала с песнями и танцами, прославившими ее несколько лет назад, и снова производила фурор. В «Бобино» мы слушали престарелого Георгиуса и новую звезду Мари Дюба, вызывавшую у зрителей восторг и смех; она была очень забавной, когда пела песенки 1900-х годов — я помню одну из них, которая называлась «Эрнест, подите вон», — в этих пародиях мы увидели сатиру на буржуазию. Были в ее репертуаре и прекрасные народные песни, грубоватость которых казалась нам вызовом просвещенным кругам: ее мы тоже считали анархисткой. Решив любить только тех и то, что подходило нам, мы старались привести в соответствие все, что любили.
Книги, спектакли многое для нас значили; зато общественные события нас трогали мало. Падение министерств, дебаты в Лиге Наций казались нам столь же ничтожными, как и столкновения, периодически провоцируемые «Королевскими молодчиками». Громкие финансовые скандалы нас не удивляли, поскольку капитализм и коррупция была в наших глазах синонимами. Устрику повезло больше, чем другим, вот и все. Криминальная хроника не представляла интереса, речь в основном шла о нападении на водителей такси: газеты сообщали об этом по два-три раза в неделю. Только вампир из Дюссельдорфа заинтересовал нас, ибо мы полагали, что необходимо разобраться в экстремальных случаях, дабы хоть немного понять людей. В общем, весь мир вокруг нас представлялся нам задником сцены, на которой разворачивалась наша частная жизнь.
По-настоящему интерес для меня представляло только то время, которое я проводила с Сартром; но на деле немало дней я проводила без него. Большую их часть я посвящала чтению, довольно беспорядочному, следуя советам Сартра и своему настроению. Время от времени я возвращалась в Национальную библиотеку; у Адриенны Монье я брала книги для себя; я записалась в Англо-американскую библиотеку, которую держала Сильвия Баш. Зимой — у своего камелька, летом — на балконе, неумело раскуривая английские сигареты, я пополняла свое образование. Кроме книг, прочитанных с Сартром, я поглощала Уитмена, Блейка, Йейтса, Синга, Шона О’Кейси, всю Вирджинию Вулф, тонны Генри Джеймса, Джорджа Мура, Суинбёрна, Свиннетрона, Ребекку Уэст, Синклера Льюиса, Драйзера, Шервуда Андерсона, все переводы, вышедшие в серии «Фё круазе», и даже на английском, нескончаемый роман Дороти Ричардсон, которая в десяти или двенадцати томах ухитрилась решительно ни о чем не рассказать. Я прочитала Александра Дюма, произведения Непомюсена Лемерсье, Баур-Лормиана, романы Гобино, всего Ретифа де Ла Бретонна, письма Дидро к Софи Воллан, а также Гофмана, Зудермана, Келлермана, Пио Бароха, Панаита Истрати. Сартра интересовала психология мистиков, и я погрузилась в произведения Катерины Эммерих, святой Анджелы из Фолиньо. Мне хотелось познакомиться с Марксом и Энгельсом, и в Национальной библиотеке я принялась за «Капитал». Взялась я за это совсем не так, как следовало; я не делала различия между марксизмом и привычными мне философиями, поэтому мне показалось, что разобраться в этой теории очень легко, а на деле я почти ничего не поняла. Тем не менее теория прибавочной стоимости стала для меня открытием, столь же пронзительным, как картезианское cogito [11] Cogito (лат.). В философии — акт сознания, представление, мысль, желание и т. п. (Прим. ред.)
, как кантовская критика пространства и времени. От всей души я осуждала эксплуатацию, испытывая огромное удовлетворение от возможности исследовать ее механизм. Мир предстал в новом свете, когда в труде я увидела источник и суть ценностей. Ничто и никогда не заставило меня отринуть эту истину, ни возражения, которые вызвал у меня конец «Капитала», ни та критика, которую я нашла в книгах, ни изощренные доктрины более поздних экономистов.
Чтобы заработать на жизнь, я давала уроки и вела курс латинского языка в лицее Виктора Дюрюи. Я преподавала психологию серьезным и дисциплинированным ученицам коллежа в Нейи: шестой класс застал меня врасплох. Для десятилетних девочек начальные основы латинского языка весьма трудны и суровы; я думала, что смогу смягчить эту суровость улыбками; мои ученицы тоже улыбались; они взбирались на помост, чтобы поближе рассмотреть мои колье, дергали меня за воротничок. Первое время, когда я отправляла их на места, они вели себя более или менее спокойно, но вскоре стали, не умолкая, разговаривать, суетиться. Я пыталась говорить с ними более сурово, метала грозные взгляды, но они продолжали кокетничать и болтать без умолку. Я решила прибегнуть к строгому наказанию и поставила плохую отметку самой непослушной из моих учениц; она бросилась головой вперед к стене с криком: «Отец побьет меня!» Весь класс с упреком подхватил: «Отец побьет ее!» Могла ли я отдать ее в руки этого палача? Но если я пощажу ее, как наказывать ее подружек? Я приняла единственно возможное решение: перекрывать их гвалт своим голосом, те, кто хотел меня слушать, слушали, и, думаю, моя группа усвоила латинский язык как ни одна другая. Зато меня не раз вызывала возмущенная директриса, и мой контракт на преподавание не возобновили.
Читать дальше