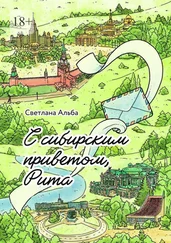Слухи, которыми жил Мадрид, конечно, дошли до королей. Не скажу, чтобы это их слишком расстроило, они уже привыкли быть мишенью придворного и народного злословья, но дон Карлос тем не менее позаботился, чтобы именно по инициативе короны было начато расследование обстоятельств смерти Каэтаны, и немедленно издал указ, согласно которому мне надлежало контролировать соответствующие действия министра внутренних дел. Тем же вечером, когда мы играли в crapaud, королева, которая, как оказалось, знала о празднике у Каэтаны гораздо больше, чем я мог предположить, отложила вдруг в сторону колоду карт и спросила: «Как ты думаешь, Мануэль, от чего умерла де Альба?» Я ожидал этого вопроса: «Я думаю, ваше величество, она умерла от андалусийской лихорадки, так считают врачи». – «Но ты ведь был у нее накануне, мне рассказали даже, что в начале ночи вы оба уединились в ее комнатах, так что ты должен был заметить, что она больна…» Я не верил своим ушам. Коварство принца было просто непостижимо: желая уязвить свою мать и поссорить меня с ней, он поторопился рассказать ей о том, что было на празднике, и, конечно, об этом промежутке времени, когда мы с Каэтаной отсутствовали (а сам он использовал это время, чтобы совершить свое гнусное преступление). «Если у вас есть такие надежные информаторы, ваше величество, то не знаю, что я еще могу добавить…» Донья Мария-Луиза была слишком нетерпелива, чтобы говорить намеками и обиняками, и, смешав карты, – эту партию я должен был выиграть, – обратилась ко мне с откровенным и довольно нескромным вопросом: «Полноте, Мануэль, что ты там делал, когда заперся с этой?…» Самый хороший ответ – копия письма дона Фернандо неаполитанской королеве – хранился у меня во внутреннем кармане мундира. Не было смысла и дальше хранить в тайне личность «Доброжелателя». Предъявив письмо, я не только оправдывал мое уединение с герцогиней, но и дискредитировал доносчика. Потому что если до этой минуты я не осмеливался заявить королям, что их наследник – убийца, то теперь я чувствовал себя вправе нанести мощный удар этому подонку.
Следствие длилось несколько дней, и каждый вечер я получал полный отчет о его результатах. Никто не верил в яд. Каталина Барахас не упомянула о разговоре со мной и ограничилась утверждением, что «никто не мог желать зла такой доброй и щедрой женщине». К моему облегчению, никто из опрошенных не показал, что принц Астурийский покинул салон, где собравшиеся слушали трио, и поднялся на верхний этаж. Никто не видел, как он входил и выходил из комнаты покойной. Никто не обратил внимания на венецианский бокал, который тогда – я узнал это от Гойи – так органично вписался во множество принадлежавших Каэтане вещей. Оба врача решительно отвергали возможность ошибки, хотя их диагнозы не совпадали; они упрекали друг друга в небрежности, приписывая ее возрасту, правда, в одном случае имелся в виду слишком юный, а в другом – слишком преклонный возраст. Банку с зеленой веронской не нашли (да ее скорее всего и не искали), и вполне вероятно, что она затерялась в еще не убранном строительном мусоре, оставшемся около дворца. Флакон в сафьяновом чехле с солями выпал в темноте из кармана, был затем поднят и возвращен владельцу, однако ни владелец, ни тот, кто нашел флакон, никак не прокомментировали столь незначительное происшествие. Пауза, возникшая при возвращении флакона, разрасталась концентрическими волнами и в конце концов превратилась в сплошное всеобщее молчание. Чернь забыла свои подозрения с той же беспечностью, с которой их породила. Годы спустя дон Фернандо смог стать королем Испании. Его упрекали в чем угодно, находили в нем какие угодно недостатки, но никто никогда не сказал, что он – убийца.
Я больше не видел Гойю после нашей встречи в Бордо. В моей памяти он навсегда сохранился таким, каким был в тот последний раз: глубоким стариком с живыми глазами, неотрывно следящими за пламенем догорающей свечи, будто наблюдая тайное жертвоприношение, на котором сжигались память, верность, любовь. Три года спустя, в конце 1828-го, я узнал, что он умер. А за несколько дней до этого моя дочь сообщила из Мадрида, что скончалась Майте, моя жена, чье здоровье уже давно было серьезно подорвано. И хотя я не видел ее с 1808 года и за прошедшие двадцать лет не получил от нее ни строчки, это известие имело для меня огромное значение. Только теперь я наконец почувствовал себя совершенно свободным, смог жениться на Пепите, упорядочить мою личную жизнь, обрести душевное спокойствие, которого никогда не имел. Сообщение о смерти Гойи, пришедшее в тот момент, уже не могло глубоко меня тронуть.
Читать дальше
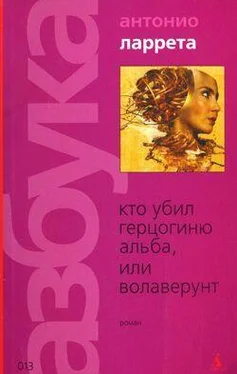




![Александр Альба - Ненужная крепость [СИ]](/books/396118/aleksandr-alba-nenuzhnaya-krepost-si-thumb.webp)