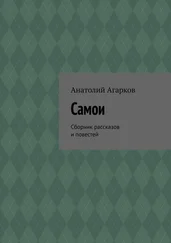– Шибко быстро ты, паря, родину забыл, в иркутянина оборотился, оборотень…
А степной прозаик полез в драку:
– Мне до Распутина, как до небес?! Да?! Повтори, б..!
– Сам ты б..! – Хотя смалу робкий, я невольно огрызнулся.
– Ладно, пошли поговорим! – И, дерзко вскочив, земляк потянул меня за рукав. – Ну, чо? Боишься?.. Ну?..
– Не понукай, не понукай!.. Не запряг… Ладно, пошли…
Вова Липин, кажется, хотел примирить, но… гнев уже помутил наши души. Коридорный разговор с глазу на глаз вышел короткий: коль мы шатко стояли на ногах и не могли мутузить друг друга, то и сцепились в вольной борьбе. Пали на ковровую дорожку, свились в рычащий клубок, покатились по коридору, и дежурная по этажу, завидев мамаево побоище, завопила «караул», кинулась звонить в милицию.
Степняк оказался слабее меня, но злее и стал одолевать, и даже за горло ухватился… Ох, пострадал бы я за всесветно славленого писателя, но благо на «караул» вылетели земляки и растащили нас. Хорошо хоть водой не разлили, словно задиристых собак.
А Вова Липин, некогда породистый дворянин с накрахмаленным стоячим воротничком, постепенно спился, опустился, а потом, как у поэтов водится, и вовсе бы сгорел с вина, одарив мир книжечкой нежных, певучих стихов о любви к Вышнему и ближнему. Но Бог спас: Вова очухался, затаился, потом вдруг пропал с глаз – и лишь спустя годы нашёлся в Троицком монастыре – в иноческой рясе и чёрной камилавке на покаянной, до времени поседевшей и вроде усохшей головушке. Я узнал Вову, рванулся было встречь, но осадился, опешил: монашек невидяще смотрел сквозь меня.
2000 год
Случилось в стародавние лета… Брежнев царил… захолустное издательство измыслило сборник о любви, – не к Богу и ближнему… про божественную любовь, богохулы, слыхом не слыхивали… – а про любовь, от которой чада рожаются. Крещеные, ведая, что Любовь – Божье имя, всуе не трепали любовь ; а говорили: мужик бабу жалеет, и баба жалеет мужика. Русский жалью живёт, отчего и пелось в девичьих страданиях:
Закатилось красно солнышко,
Не будет больше греть.
Далеко милый уехал,
Меня некому жалеть…
И сплёл я для облюбованного сборника повесть «Елизар и Дарима»; позже на сто рядов перелопатил, довёл до ума, убавил греха, выполол из речи дурнопьяный бурьян и повеличал повесть – «Белая степь». Спел русско-бурятскую, ковыльную «песнь песней», где Елизар, семейский [195] Семейские – старообрядцы Забайкалья.
паренёк из забайкальских староверов, по уши втрескался в пригожую буряточку из древнего рода Хори. Влюбился без ума… Да и дева сохла по Елизару. У земляков, сочинявших романы и повести о двуязыкой любви, страсть …полая вода… белопенистым, ревущим, свирепым потоком сносила межнациональные дамбы и запруды; в моей же повести, увы, страсть не смыла дамбу, сплетённую крепкими, – крепче лиственничных, – древлими племенными корнями.
На исходе стр а стной повести сказитель светло и обречённо вздыхает: «Не радуйся нашедши, не плачь потеряв, – вот заповедь, тогда еще неведомая Елизару, отчего ликующими были его ночи, отчего так стремительно пришла расплата и отчего она была такой мучительной; но, как говаривала тётка Ефимья, сердце заплывчато, обида забывчата: и хоть не уходила Дарима насовсем из тоскующей памяти, но уж другая припала к сердцу, и была она одного с Елизаром роду-племени; а благоуханная цветочная земля – хангал дайда, и белая степь – сагаан хээрэ, и смуглая девушка, скачущая от берёзы к синеватому месяцу, поминались уже как сон, красивый и счастливый сон, в котором не было злости и обиды».
Когда повесть узрела свет, Валентин Распутин, скупой на похвалы, вдруг похвалил:
– Толя, ты пишешь, как Лев Толстой…
У меня аж голова пошла кругом, от волнения в жар кинуло, но Распутин, лукаво улыбнувшись, добавил:
– Правда, у Толстого сноски с французского, у тебя – с бурятского.
Верно подметил: от запева «Би шаамда дуртээб» [196] Би шаамда дуртээб – Я тебя люблю.
да слёзного прощания в повести пылали степными цветами-саранками бурятские речения. Потешная распутинская хвала, похоже, и надоумила меня, недоумка, махнуть в родную Бурятию, чтобы издать повесть в журнале «Байкал». Затеплилась надежда: в «Байкале» правил писатель Будамшу – земляк, родом из соседнего улуса. В деревенской юности я, грешным делом, ухаживал за его младшей сестрой, а старшая вышла за русского парня, и жили молодые душа в душу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Байбородин Деревенский бунт [Рассказы, повести] обложка книги](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-cover.webp)



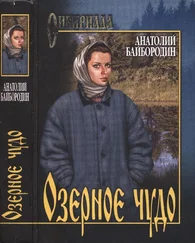

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Анатолий Гаврилов - Берлинская флейта [Рассказы; повести]](/books/228661/anatolij-gavrilov-berlinskaya-flejta-rasskazy-pov-thumb.webp)
![Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете [Повести и рассказы]](/books/397351/anatolij-aleksin-moj-brat-igraet-na-klarnete-pove-thumb.webp)