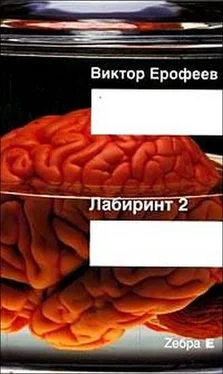По жанру роман Камю можно отнести к роману воспитания с той лишь существенной разницей, что он исследует пути не адаптации героя к общественной среде, а разрыва и дезинтеграции. В смысле «антивоспитания» «Посторонний» похож на романы маркиза де Сада, но если последними движет всеразрушительная страсть, то в романе Камю на первое место выставлен абсурд. Мерсо возникает как самораскрытие духа абсурда, и ценности любой неабсурдной культуры ему чужды. Перед читателем — миф о новом Адаме, освобожденном от условностей, рефлексий, интеллектуальных забот, но зато полном безграничного доверия к своим желаниям и чувствам. Мерсо сбросил с себя одежды культуры — даже не сбросил, а просто автор создал его нагим. Читатель вправе ожидать конфликта Мерсо с теми, кто еще ходит в душных и бесполезных одеждах. Конфликт и составил содержание книги. Мерсо задремал над гробом матери. Он убил араба, как назойливую муху. Для «культурных» людей этого предостаточно. Они судят его и приговаривают к смертной казни.
Сознавал ли Мерсо свою наготу? В предисловии к американскому изданию романа, написанном в 50-е годы, Камю утверждал, что «герой книги приговорен к смерти, потому что он не играет в игру» — «Он отказывается лгать. Лгать — это не просто говорить то, чего нет на самом деле. Это также, и главным образом, — говорить больше, чем есть на самом деле, а в том, что касается человеческого сердца, говорить больше, чем чувствовать… Вопреки видимости, Мерсо не хочется упрощать жизнь. Он говорит то, что есть, он отказывается скрывать свои чувства, и вот уже общество чувствует себя под угрозой».
Камю заключает: «Ненамного ошибутся те, кто прочтет в «Постороннем» историю человека, который безо всякой героической позы соглашается умереть во имя истины».
Камю превращает Мерсо в процессе его конфронтации с обществом не только в идеолога абсурда, но и в мученика. Адам становится Христом («единственным Христом, которого мы заслуживаем», — по словам самого Камю), судьи — фарисеями.
Мерсо, за которым скрыт автор с готовыми идеями «абсурдной» философии, навязывает читателю свой выбор: либо фарисеи, либо он со своей бесчувственной правдой. Но выбор надуман, как и сам герой. Один из французских критиков писал:
«Если Мерсо — это человек, то человеческая жизнь невозможна».
Загадка Мерсо, привлекающая к себе не одно поколение читателей и критиков (роман побил все тиражные рекорды карманных изданий во Франции и особенно привлекает молодежь, которая находит в нем смелый вызов надоевшей общественной системе воспитания), должно быть, в том и заключается, что он не человек, а некая философская эманация, абсурдизм с человеческим лицом и телом.
Неизбежный трагизм существования еще не означает торжества философии абсурда. Напротив, как доказал сам Камю на примере своей жизни, ее невозможно не «предать», особенно в исторической пограничной ситуации. Опыт второй мировой войны открыл Камю мир, находящийся по ту сторону абсурда, мир, в который он до того отказывался верить, считая его лживым призраком. Теперь в его существовании он убедился воочию. Стремление разобраться в опыте войны впервые проявляется в публицистических статьях, объединенных под названием «Письма к немецкому другу» (вымышленный друг выведен философом отчаяния, не верящим в гуманистические ценности, — тем самым он уязвим для нацистской идеологии), написанных в 1943–1944 годах, ярком литературном документе периода Сопротивления. В «Письмах…» Камю намечает альтернативу философии и практики отчаяния. Главный акцент сделан на связи человека с жизнью, в результате земля вбирает в себя традиционные функции небес, и справедливость обретает смысл как чувство верности земле. Все это пока что довольно шатко, но гуманистическая тенденция обозначается определенно.
Ростки нового мировоззрения, выраженного в «Письмах…», укрепились и утвердились в романе «Чума» (1947), который принес Камю мировую славу.
«Чума» — одно из наиболее светлых произведений западной словесности послевоенного периода, в ней есть черты «оптимистической трагедии». Это утверждение не парадокс, несмотря на его парадоксальную видимость, которая возникает благодаря тому, что содержание романа-хроники составляет скрупулезное описание эпидемии чудовищной болезни, разорившей город Оран в 194… году и унесшей тысячи жизней его обитателей, что само по себе представляет удручающую картину. Парадокса нет, потому что через все страдания и ужасы эпидемии автор хроники донес до читателя благую весть, и она торжествует над трагедией, прокладывая путь вере в духовные силы человека современной цивилизации, который под воздействием философии скептицизма готов был уже окончательно разувериться в себе. Обаяние надежды, теплым светом которой пронизана «Чума», состоит главным образом в том, что эта надежда была рождена не в экстатическом приливе риторического вдохновения, не в пароксизме страха перед грядущими судьбами человечества (в результате чего надежда бы стала защитной реакцией, волевым актом «скачка», который столь решительно отверг автор «Мифа о Сизифе»), но выпелась как бы сама по себе из реального опыта трагической обыденности оккупации. Естественность светлого начала, придавшая книге оптимистическую настроенность, которой алкал послевоенный читатель, напоминающий в этом смысле сартровского Рокантена (из романа «Тошнота»), уставшего в конечном счете от «тошноты», несомненно способствовала огромному успеху романа.
Читать дальше