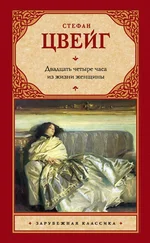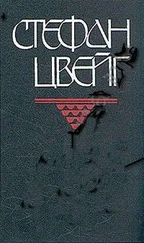После примерно десяти ходок Исмаилу казалось, что его сердце выпрыгивает из груди в горло, а моряк в ослепительной форме, всё так же зевая, покачивался с ноги на ногу и глядел на барашки, которые теперь взбороздили гладь Золотого Рога.
Где-то на тринадцатой или пятнадцатой ходке, когда при каждом шаге ему казалось, что он не сделает ни одного шага более, моряк в ослепительной форме что-то крикнул, наконец, матросу, красившему опалубку, и Исмаил понял, что настал момент действовать. Сбросив мешок в трюм, Исмаил глянул на спину шагающего прочь офицера и повалился в отверстую черноту трюма. В клубе поднятой пыли, он прокатился по наваленным в трюме мешкам, и забился в узкое пространство между мешками и бортом судна.
— Эй, ты, — негромко позвал кто-то с палубы. На фоне яркого неба темнела чья-то фигура. — На, держи, — всё так же негромко сказала фигура, роняя в трюм небольшой сверток, плюхнувшийся на мешки. Исмаил протянул руку, нащупывая сверток. В нем оказалась подсохшая лепешка. Фигура на палубе сбросила что-то еще, покатившееся по мешкам, и когда Исмаил добрался до упавшего предмета, он оказался плотно закупоренной бутылкой с водой.
Грузчики продолжали сбрасывать в трюм мешок за мешком, и спустя некоторое время Исмаил задремал, сквозь сон регистрируя монотонные шлепки человеческих подошв по палубе, глухие уханья падающих мешков и изредка голоса переговаривающихся на палубе людей, по звучанию которых он догадывался, что они говорили по-русски.
Потом он проснулся, внезапно поняв, что звуки шагов прекратились и что в трюме стало совсем темно. Он прокарабкался между бортом судна и мешками туда, где должен был быть ныне закрытый люк. Слабая струйка прохладного воздуха веяла из едва различимой щели. Потом кто-то наступил на люк, звякнуло железо, и струйка воздуха иссякла.
Отпив воды из бутылки, он вытянул ноги, которые уперлись в один из мешков, заложил руки за голову, которая опиралась на другой мешок, и тихо запел румынскую песенку, которую помнил с раннего детства. Потом он снова заснул, а когда проснулся, равномерный рокот работающей машины где-то в утробе судна, плеск воды и покачивание сказали ему, что судно отчалило от пирса. Мысленно он повторял, как заклинание, Кара-Дениз, Кара-Дениз, Кара-Дениз — как если бы это заклинание могло вынудить судно направиться не в Ак-Дениз, Средиземное море, на запад, а в Кара-Дениз, Черное море, в сторону страны его родителей, где его ждало великолепное, радостное будущее.
Вскоре волнение усилилось, и он понял, что судно вышло из Золотого Рога в Босфор. Он не мог определить, куда оно повернуло, на восток или на запад, и упрямо продолжал бормотать свое заклинание. Качка усиливалась, мешки уходили из-под него, голова его то проваливалась куда-то в пустоту, то взлетала вверх, и при каждом провале всё внутри тела подымалось в его горло. Он попробовал принять сидячее положение, но прилив тошноты заставил его снова вытянуться между мешками. В этом полулежачем положении тошнота уменьшилась. Он снова отпил теплой воды из бутылки. Теперь он хотел обратно в Стамбул, где ему пришлось бы постоянно оглядываться в страхе, но не стало бы этой изматывающей тошноты.
Он не знал, сколько времени прошло в полудремоте, прерываемой всплесками тошноты, когда, наконец, изматывающая качка прекратилась. Это могло означать, что судно пересекло Мраморное море и вошло в спокойные воды Дарданелл, и если это было так, то он проиграл и не попадет в страну своих родителей. Теперь, когда качки более не было, он думал, что любое место на земле будет для него лучше Стамбула. При первой возможности он выберется из трюма и выскользнет на берег, в какой бы стране он ни оказался. Его глаза настолько привыкли к темноте, что он стал различать слабую полоску серого, где край люка не совсем плотно прилегал к его раме. Потом полоска исчезла, и он понял, что наступила ночь. Он снова уснул, а когда проснулся, судно снова качалось с борта на борт, но тошнота более не возвращалась. Он допил остатки воды и сжевал сухую лепешку. Он более не мог терпеть зуд внизу живота. Он прокарабкался в угол трюма и с облегчением выпустил горячую струю, тихо прошуршавшую по стенке.
Край люка снова стал серым, и в трюме стало жарче. Новый день наступил. Теперь, он знал, судно было далеко от Стамбула, то ли в Средиземном, то ли в Черном море. Отсюда его не вернут в Стамбул. Голод, жажда и темнота вдруг стали нестерпимыми. Он более не мог ждать, он должен был сейчас, в эту минуту, выбраться из жаркой черноты трюма на свет, к воде и еде, чем бы это ему ни грозило.
Читать дальше