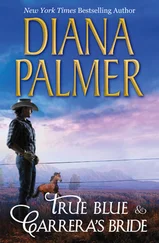Кайфа ни в одном глазу. На него сейчас вообще почти ничего не действовало: ни беда, ни женщина, ни LSD.
Его давно интересовало, как она поведет себя под кислотой. Стала проще и доступнее. Веселилась:
— Болит живот, а так я была бы счастлива.
Еще болело сердце, проблемы с дыханием…
— Нам бы кефир пить, а не наркотиками баловаться, — подытожил Захар.
Потом пили чай на кухне. Говорили о эволюции Гребенщикова и есаула Бичевской в сторону православия. Ей это, скорее, нравилось. Ему — нет.
— Муза искусства — тоже богиня, — сказал он, — и не терпит иных богов рядом с собой. Она мстит за измену. Поэтому так интересен ранний БГ и неинтересен поздний. Исписавшись, исчерпав пафос юности — он теперь увлекся православием. Но православие слишком большая вещь, чтобы быть средством. Оно может быть лишь целью. Целью жизни, состояния особой удовлетворенности и веселья, которому не нужно творчество.
Он замолчал. Она смотрела на него и вдруг спросила:
— Что, нежности кончились?
— Нежности?
— А, испугался, сразу в кусты? Ты со всеми девушками так поступаешь?
(Его слава ловеласа, оказывается, широко известна.)
— Я не испугался. Я ничего не боюсь.
Она молчала и смотрела на Захара.
— Знаешь, в последнее время я придумал для себя концепцию очень хорошего солдата, как из какого-то американского фильма…
— Что это значит?
— Значит, что я человек, который не имеет своих желаний, но делает то, что нужно. Нужно в каждой конкретной ситуации. И перестает делать, когда не нужно.
— Понятно. А теперь — не нужно?
— Да. Разве нет?
Он испугался, что обидел ее.
— У меня убиты все чувства… — извинился он.
— Я тебя понимаю… Мне тоже тяжело. Я даже не могу исповедоваться в храме. Впрочем, тебе, наверное, этого не понять.
— Почему это?
— Ты же не христианин.
— Ты заглядывала ко мне в метрику?
— Нет, я так думала. Ну, тем лучше. Приятно быть в компании единоверца…
Потом они рассматривали фотографии их героической молодости.
— Вот он… — произнесла Даша издевательски и протянула фотографию Артура. Он в своей любимой скучающей манере презрительно смотрит на мир. Еще волосат, лет десять назад.
— Хоро-ош! — засмеялся Захар.
— Вот на кого обрекла нас судьба, — продолжила она с невеселым смехом.
— Ты все еще его любишь?
— Не знаю. Но я бы не хотела делать ему вреда.
— Я понимаю. Я тоже…
— Я надеюсь на это.
Они произносили эти риторические клятвы, которые мог бы опрокинуть первый порыв страсти. Но его не было.
Вместо страсти между ними шла странная игра-поединок. Ее взгляды, недомолвки, непонятные слова. То, что она многое ему позволила (“многое” — это малое. Впрочем, в этом не было нужды.). Может быть, так она ставила эксперимент. Или мстила. Сильный игрок. В чем-то она его переиграла. В чем-то — он ее. Пресловутые игры господства: они хотели владеть друг другом, не испытывая вины, не совершая предосудительных демаршей. Не произнося однозначных слов, не прибегая к действиям. Каждый из них уже обжегся на чужих или своих действиях. И при этом ждал поступка от другого. Или неверного хода.
— Я иду спать, — наконец сказала она.
— Хорошо, тогда я поеду.
— Я хотела бы, чтобы ты остался…
Это не было приглашением в постель. Постель ему была постелена отдельно.
…Ночью, пока Даша спала, он говорил с Оксаной по телефону. Предупредил о своем невозвращении (она не ревновала, знала его…). Заодно узнал, что, оказывается, пока он ставил автоматы — чтобы у нее была горячая вода — она пыталась в стопятидесятый раз покончить с собой (потом он нашел шприц и синяк на руке). Рассказала для того, чтобы Захар знал, что не он один страдает. Для нее нет выхода: уйдет ли она к “нему” — будет страдать за Захара, уйдет ли Захар — опять. Переломается ли и останется с Захаром — не простит себе, что “изменила” ему.
Он лежал в дашиной постели в той самой комнате, что “как из дворца Снежной Королевы” — и думал: в чем его сила? В том, что он намертво сел на крошечный клочок земли, размером даже не с квартиру, а с кухню, где делал ремонт, и закрепился на якорь. С которого его можно вытолкнуть только в умереть. Поэтому лежал спокойно: он уже привык спать в чужих домах. Привык справляться с мощными эмоциональными нагрузками.
Он был крепок, как человек, который все про себя знает, который ничего больше не хочет и ни к чему не стремится. — Но был на свете человек, который мог убить его одним словом.
Его позиция “неуязвима”, потому что чудовищно сосредоточена на одном. Он не позволял себе ни настроения, ни слабости, ни желаний. Когда он мог что-то облегчить себе — он утяжелял — чтобы не расслабиться, не отвыкнуть жить с перегрузками, когда любое среднее воздействие — не оставляет никакого следа. Требовал от себя все более тяжелых вещей — чтобы чувствовать, что готов. Что на этот раз он выдержит, какой бы ни был силы удар.
Читать дальше