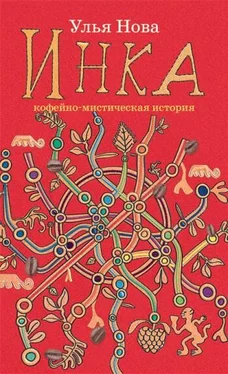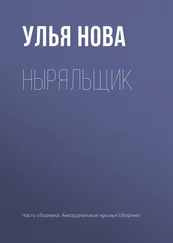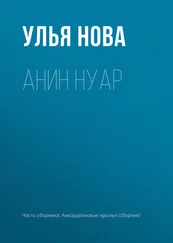Индейское лето торжествует, улица убрана как перед большим праздником. Куда ни глянь, повсюду рассыпаны бурые, желтые, красные, оранжевые, пурпурные пятна, полоски, зигзаги. Дорожки, газоны и даже строгие, пыльные шоссе украшены орнаментами. На деревья нацепили пестрое оперенье, а в голубом воздухе выплясывают целые хороводы кленовых листьев. Эх, убежать бы в парк, побродить, да что есть силы пнуть разок толстый шуршащий ковер, чтоб сырой туманистый воздух окрасился пляской липовых сердечек, а потом, замерев по-охотничьи, вслушиваться, как падает с ветки на землю, степенно и медленно танцуя, лисий, прохладный лист. Вот о чем мечтает Инка, а сама изо всех сил старается вырваться из сильных, неукротимых рук. Но руки эти жестокие вцепились в тельце, держат железной хваткой, да так крепко, что по коже, наверное, расплываются синяки и остаются кровоподтеки. Чем сильнее Инка извивается, тем яростнее прижимают ее к мокрой от пота простыни. Она мечется, издает бессвязные возгласы, пахнущие древностью, бесстыдством и волей. Все ее косички пропитались соленым потом, привяли как скошенные цветы. И сама Инка неузнаваема: брыкается, кричит, плачет, она – увядающая роза ветров, увядающая роза ураганов. От ее древних, непонятных, но грубых криков проснулись духи, и последствие их пробуждения не замедлило сказаться – электричество отключилось.
В полутьме наплывающего вечера, при свете далекой и маленькой Мамы Кильи, что затянула осенние песни, все стало таинственным и голубым. Болтливый ветер дрожал и тихонько шептал в форточку о том, что лужицы на ночь затянулись первым льдом.
Чужаки, чьи руки больно вторгались в Инкино тело, видимо, решили ее убить, сделав посланником к звездам, или принести в жертву неизвестным и суровым идолам. И принесли: все исчезло, не стало ни тяжести, ни луны, ни ветра, наступило полное ничто, после издевательства чужаков в нем оказалось не так уж плохо, а даже прохладно и легко. Черная дыра, в которую Инка попала, уравнивала землевладельцев и батраков, зверей и птиц, прорицателей и авантюристов, всех заставляла молчать, лишала пожитков и сбережений, делала кроткими, послушными и смешивала в одно черное, густое месиво. Инка переходит реку, покачивается на подвесном мосту, сплетенном из волос, на том берегу уже ждет ее дикая собака, чтобы проводить в темноту. Инке осталось всего несколько шагов, она готова влиться в общий котел, но ее не пускают, бьют по щекам и суют под нос тряпку, пропитанную застарелой мочой. Разве можно влиться в вечность, когда так обращаются с твоим бездыханным телом, хочешь не хочешь, накатывает возмущение и приходится оживать. Пусть жизнь и кусает гиеной за бока, а все хоть какая-то определенность в жизни этой собачьей имеется. Инка медленно приходит в себя, возвращается в горящее, мокрое, стонущее тело. Воздух пахнет свежей кровью, болит прикушенный язык и ужасно хочется пить, но все это пустяки. Было бы почти хорошо, если б рядом так не орал, обезумев от страсти, кот. Безудержный кошачий крик заставлял похолодеть, казался бесконечным, видно, сам рекуай вырвался из своих гробниц и затянул гимн жизни, невыносимую брачную песнь. Инка пытается сесть, чтобы сорваться и убежать босиком, она смогла легонько приподнять голову, но удерживать ее не было сил, и голова, как спелая тяжеленькая дыня, упала назад. Инка вскрикнула, как не вскрикнуть, если в животе все окаменело от боли. Как не испугаться, когда простыня-то, оказывается, вся в крови. А еще ее, словно старую альпаку привязали, чтобы не ушла, какая-то окровавленная бечевка уходит туда, внутрь, не отпускает, не дает улизнуть. От беспокойства и негодования белые стены медленно пошли водить хоровод. Мучители подскочили, трясут тело, опять тычут Инке под нос отрезвляющий запах застарелой мочи, теперь их лица бледные, словно облеплены мукой, а глаза в панике бегают туда-сюда. Кто-то набивает Инкины уши желтыми осенними листьями. Худая и сердитая женщина что-то говорит, а сама держит на руках съеженного, окровавленного зверя. Зверь сопротивляется, брыкается, бьется, видно, ему тоже невмоготу, хочет вырваться и убежать. Оглохшая от боли, Инка узнает – голое, окровавленное существо привязано к ней бечевой, именно оно, безумное от испуга, кричит как ошалевший от любви кот, а к недоумению всех бледнолицых, неведомый зверь светится не хуже любого электричества. Инка осматривает существо недоверчиво – уж очень оно дикое и напоминает детеныша обезьяны, а мордочка и зажмуренные глазки точь-в-точь как у слепого котенка. Боль продолжает набивать Инкины уши листвой, теперь ее голова – пробковая. Тут только Инка замечает на голенькой головке черное перышко и длинные реснички на крошечных, зажмуренных в ужасе глазенках. Тогда она облегченно вздыхает, на ее бескровном, сером лице намечается гримаска-улыбка. Инка шепчет болтливому ветру что ворвался в форточку и освежил ее лицо, усеянное росой пота: «Передай Уаскаро: только безмозглая женщина наступает на грабли два раза. Скажи, только женщина, которой грифы начисто выклевали мозги, могла найти, а потом снова потерять его…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу