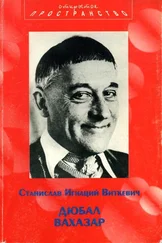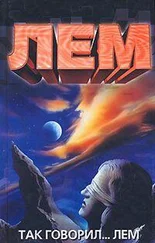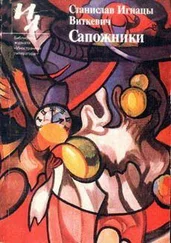Так размышлял преждевременно созревающий Зипек, еще не зная, что такое любовь, познав ее в наихудшем, почти предсмертном издании, а точнее, лишь ее суррогат, деформированный эпохой и диспропорцией в годах. [«Относительно пожилая демоническая женщина хороша для молодого человека, если перед тем он любил девушек и обладает хотя бы элементарным эротическим опытом, — в противном случае дело кончится для него плохо» — так утверждал Стурфан Абноль.] Зипека охватило тягучее, мучительное, обессиливающее страстное желание — даже не самой княгини, а всего того антуража оглупляющего наслаждения, который она умела создавать незаметно, с невинным видом и в то же время с глубоким проникновением в самые скрытые и самые отвратительные уголки мужской так называемой «души», о которых «не принято говорить» (этого не принято говорить и о женщинах, хотя с ними дело обстоит проще). А жаль — ведь лет через двести-триста этого уже не будет. Эти «эпифеномены» — самое страшное, а их описание более ужасный труд, нежели они сами, и тем более нежели разные, даже самые подробные повествования о соприкосновении гениталий. Их обнажение шокирует больше, чем обнаженные тела в самых разнузданных позах. Этим не посмел заняться даже Стурфан Абноль, самый смелый из последних писателей, которому было глубоко наплевать на публику и на политические фракции, нанимающие соответствующих гениальных стилистов для пропаганды соответствующих идей. Княгиня же умела обставить дело так, что у любого сильного самца все переворачивалось внутри, — что уж тут говорить о каком-то Зипеке Капене. Понимание того, что все ее действия до мелочей продуманы, бесконечно усиливало их притягательность. Блаженство возрастало в той же степени, что и мука. Та же боль не имеет значения, если не знать, что ее специально причиняет старательный палач, прекрасно знающий, как его действия влияют на психику пациента. Самая безжалостная машина является верхом кротости по сравнению с одним только жестом сознательного изуверства, причиняющего неимоверные страдания. В этих муках, словно на гранях кругообразной бесконечности в популярном изложении теории Эйнштейна, половое скотство совмещалось с варварским инстинктом самосохранения, образуя низменный фундамент существования личности. Генезип не добрался еще хотя бы до первого этажа этого строения — беседа в скиту князя Базилия отбила у него охоту к постижению даже азов «элементарного понимания мнимой кантовской сложности».
«Некоторым глупцам, нафаршированным материализмом, метафизика представляется чем-то сухим, занудным и п р о и з в о л ь н ы м! Вот олухи: это ведь не теософия, не какой-то готовый продукт, для усвоения которого не требуется никаких умственных усилий. Другие, как «бихевиористы» или иные американские псевдоскромники, страшась метафизики и личностного существования непосредственно данного «я», стараются к а к м о ж н о м е н ь ш е г о в о р и т ь о б э т о м. Может быть, даже неплохо, что эти вещи были официально запрещены, коль скоро много обещавший Рассел написал такую книгу, как „Анализ духа“», — говорил Стурфан Абноль. Вожделение Генезипа усиливалось, ощущение уверенного в себе, всезнающего, пожившего человека исчезло, а трудно переносимое весенне-половое почти-метафизическое смятение окончательно расхлябало мышцы, сухожилия, нервные окончания и прочие связующие элементы неповторимого «я», бредущего через лес, насыщенный дыханием пробуждающейся жизни — («dieser praktischen Einheit» [58] «Этого практического единства» (нем.).
, по Маху — словно понятие «практичности» можно ввести независимо от понятия «единства» — причем с в я з а н н ы х м е ж с о б о й элементов!!). Так возмущался кое-кто когда-то, но Генезип еще не был способен это понять. В состоянии, подобном сегодняшнему, его начинало беспокоить его нищенское материальное положение. Иногда, хотя и недолго, он страшно злился на отца. Но тут же утешался мыслью, что «и так скоро все провалится в тартарары» (как утверждали «пораженцы»), и тогда будущее рисовалось ему в образе женщины-сфинкса, манящей в неизвестные многообещающие дали. Он мыслил подсознательно, образами, почти так же, как отец, когда писал последнее предсмертное письмо Коцмолуховичу. В конце концов, пока он был сыночком при своем папаше, он мог без угрызений совести пользоваться его богатством (другой вопрос — воспользовался бы или нет) — самостоятельно же безусловно не смог бы. Применительно к любой проблеме все яснее вырисовывалась двойственность натуры несостоявшегося пивовара. Пока что в этом не было ничего страшного, было просто любопытно. Это лишь придавало прелести минутам дальнейшего «пробуждения», к сожалению, на все более низких уровнях туманного облика будущего человека — слово «человек», которое получило множество возвышенных интерпретаций, казалось, подвергается неуклонной конвергенции с понятием идеально функционирующей машины. Все внутренние перипетии юнца были симптоматичны как раз для такого толкования. Но для него и м е н н о они были единственной жизнью, бесценным сокровищем, которое он р а з б а з а р и в а л, как это свойственно юнцам. Каждый шаг был ошибочным. Но разве совершенство (даже в искусстве) достигается чисто механическим путем? — разумеется, сегодня, «отныне и навсегда», то есть до тех пор, пока в межзвездной пустоте будет светить солнце. Позитивные ценности индивидуальных «выходок» во всех сферах исчерпаны — суть жизни проявляется в безумии; значимая творческая деятельность в искусстве инспирируется извращениями, восходящими к первобытному хаосу. Одна лишь философия в силу своего внутреннего закона развития не возвращается к давним верованиям. Всего этого не замечают только глупцы старого образца и люди будущего — они никогда не поймут прежней жизни, с которой у них нет общей меры.
Читать дальше