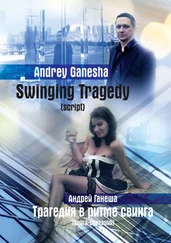— Немного сентиментально, нет? И как-то зловеще…
— А мне нравится! Как раз эта зловещесть. Голые детки рисуют голеньких друг друга. Меня сейчас хлебом не корми, а дай младенцев. — Она с тоской поглядела на малыша с жеманной улыбочкой на личике херувима. — Он мне мою детку напоминает. Тебе, что ли, правда не нравится?
Я тогда еще не знала, что Эйми была беременна Карой, вторым своим ребенком. Вероятно, она и сама еще не знала. Мне было очевидно, что вся картина нелепа, а розовощекие младенцы отвратительны особенно, но, глянув на ее лицо, я поняла, что Эйми не шутит. И что же такое эти младенцы, помню, думала я, если они вот такое делают с женщинами? У них есть власть перепрограммировать своих матерей? Превращать матерей в таких женщин, кого не признали бы даже их собственные самости помоложе? Мысль эта меня испугала. Я сдержалась до того, что лишь похвалила красоту ее сына Джея в сравнении с этими ангелочками, не слишком убедительно или связно, благодаря траве, и Эйми, нахмурившись, повернулась ко мне.
— Ты детей не хочешь, так? Или только думаешь , что не хочешь.
— О, я знаю , что их не хочу.
Она погладила меня по макушке, как будто между нами было не двенадцать лет разницы, а сорок.
— Тебе сколько? Двадцать три? Все меняется. Я была точно такой же.
— Нет, я это всегда знала. Еще с раннего детства. Материнство — это не для меня. Никогда их не хотела и не захочу. Я видела, что происходит из-за них с моей матерью.
— Что же с ней из-за них произошло?
Если спрашивают так в лоб, поневоле задумаешься над ответом по-настоящему.
— Она была молодой мамашей, затем — матерью-одиночкой. Чего-то хотела, но не могла, в то время еще, — она попалась в ловушку. Ей приходилось сражаться за хоть какое-то время для себя.
Эйми уперла руку в бок и приняла педантичный вид.
— Ну, и я мать-одиночка. И могу тебя уверить, мой ребенок не мешает мне делать ни хрена. Он мне сейчас, блядь, как вдохновение, если по правде хочешь знать. Придает равновесие — это уж точно, но тебе просто нужно хорошенько такого захотеть .
Я подумала о няньке с Ямайки, Эстелль, которая каждое утро впускала меня в дом к Эйми, а затем скрывалась в детской. То, что между положением моей матери и ее собственным может быть какое-то практическое различие, Эйми, кажется, в голову не приходило, и это стало мне одним из ранних уроков того, как можно рассматривать разницу между людьми — никогда не структурную или экономическую, а всегда сущностную разницу в личностях. Я глянула на румянец у нее на щеках, на то, где у меня руки — впереди, словно у политика, что-то подчеркивающего, — и осознала, что наша дискуссия быстро стала до странности жаркой, ни она, ни я такого на самом деле не хотели, как будто само это слово, «младенец», было для нас каким-то катализатором. Я убрала руки за спину и улыбнулась.
— Это просто не для меня.
Мы двинулись назад по галереям, ища выход, поравнялись с экскурсоводом — он рассказывал историю, знакомую с детства, — о смуглой девочке, дочери карибской рабыни и ее хозяина британца, которую привезли в Англию и вырастили в этом большом белом доме зажиточные родственники, один из которых оказался Лордом Главным Судьей [68] Речь о Дайдо Элизабет Белль (1761–1804), дочери африканской рабыни из Британской Вест-Индии Марии Белль и английского флотского офицера сэра Джона Линдзи. Его дядя судья Уильям Мёрри, 1-й граф Мэнзфилд, в 1772 г. юридически доказавший, что рабство не имеет прецедента в английском общем праве, вырастил ее в своем поместье Кенвуд-Хаус и сделал своей наследницей.
. Любимый анекдот моей матери. Вот только мать рассказывала его не так, как экскурсовод: она не верила, будто сострадание двоюродного дедушки к своей смуглой внучатой племяннице обладает силой покончить в Англии с рабством. Я подобрала листовку из пачки, выложенной на боковой столик, и прочла, что отец и мать девушки познакомились на Карибах — как будто прогуливались по пляжному курорту в час коктейлей. Развеселившись, я обернулась показать ее Эйми, но та уже перешла в соседний зал и внимательно слушала экскурсовода, переминаясь с краю группы туристов, словно была с ними. Ее всегда трогали истории, подтверждавшие «силу любви», — да и какая мне разница, что они ее трогали? Но я ничего не могла с собой сделать — вызвала в памяти мать и принялась иронично комментировать комментарий, пока экскурсоводу это не надоело и он не увел группу наружу. Когда и мы направились к выходу, экскурсию для Эйми я взяла на себя и повела ее через низкий тоннель плюща, выгнутый в беседку, описывая «Зонг» [69] Имеется в виду убийство 133 африканских рабов на борту англо-голландского рабовладельческого судна «Зонг» в 1781 г.
так, словно это громадное судно — сейчас перед нами в озере. Вызвать этот образ было легко, я его знала до мельчайших подробностей — он столько раз проплывал в моих детских кошмарах. По пути на Ямайку, но далеко сбившись с курса из-за ошибки в навигации, питьевой воды мало, весь набит изжаждавшимися рабами («Да?» — сказала Эйми, срывая с куста розочку шиповника) и под управлением капитана, который, опасаясь, что рабы не переживут остаток путешествия — однако не желая финансовых потерь в своем первом рейсе, — собрал сто тридцать три мужчины, женщины и ребенка и сбросил их за борт, скованных друг с другом: испорченный груз, за который потом можно будет получить страховку. Знаменито сострадательный двоюродный дед надзирал и за этим делом — рассказывала Эйми я, как некогда мне рассказывала моя мать, — и он вынес решение против капитана, но лишь из того принципа, что капитан допустил ошибку. Убытки должен покрыть он сам, а не страховщики. Те метавшиеся тела все равно были грузом, а сбросить излишек, чтобы спасти весь остальной груз, допустимо. Тебе за него попросту не заплатят. Эйми кивнула, заткнула сорванную розочку себе за левое ухо под бейсболку и неожиданно опустилась на колени погладить проходившую мимо компанию собачек, тащившую за собой единственного хозяина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу