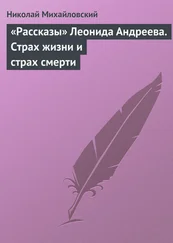Колька взвешивает на ладони удобный, с впадинами и выступами камень, пальцы его крепко обнимают камень, он жжёт пальцы, больно, до пузырей, жжёт, и надо освободить пальцы от камня. Больше ничего не чувствует, не видит Колька — и больше ничего, значит, нет.
Камня этого прежде не было в яме. Ненависть придает ненавидящему сил и творит камни. Нужно разбудить в себе злобу, а силы и камни найдутся. Осатаневшие трусы, возле которых вырастают из-под земли камни, много сильнее наглых храбрецов.
Размахнувшись, Колька направляет руку с камнем вперёд, готовясь услышать, как камень с шумом раздерёт воздух. Натянувшийся рукав кителя покрывается мелкими тугими волнами. Из рукава выглядывают зелёная манжета рубашки с полупрозрачной пуговицей и запястье, кончающееся вроде бы и не кистью, а прямо камнем. Ободранные, окровавленные Колькины пальцы начинают разжиматься, камень выдвигается из ладони, между камнем и ладонью входит полоса холодящего воздуха.
Камень пролетит короткое расстояние, ударится в затылок, покрытый светлыми волосами, зашатается на склоне парень, руки его вскинутся к голове, опадут, парень свалится на дно оврага, ляжет безжизненным лицом к Кольке, и под мёртвым затылком сомнётся, пригнётся к земле осока.
Овладевает Колькой очень ясное, стремительное ощущение, какого, впрочем, не может быть: словно он не бросает, а ловит камень, догоняет его. Он уже не видит рукава кителя, не видит манжеты с пуговицей, не видит ничего, потому что крепко зажмуривает глаза, стараясь в слепой темноте поймать камень, — в темноте, чтобы не видеть, что случится, если всё же не поймает, и чтобы не верить затем в происшедшее, потому что есть вещи, в какие нельзя верить, — и словно бы доказывает себе, что пальцы не разжались ещё вполне, не пустили камень, что они сумеют удержать его, что с силой, с яростной ловкостью они уловят кончиками, стиснут отделившийся от ладони камень, — и тело Колькино, как бы перемещая силу и ловкость в кончики пальцев, напрягается, каждая мелкая и крупная мышца наливается сопротивлением, останавливая посланный камень.
Колька шепчет что-то. Правда, он не уверен, что шепчет, однако знает, что каким-то образом уговаривает камень, умоляет его, как живое существо, не уходить, не оставлять его, не покидать его руку.
И вспоминается Кольке недавний случай.
Он возвращался из увольнения, и незнакомая литовская женщина, не поленившись и не испугавшись жёлтого и уже красного сигнала светофора, перебежала дорогу перед автомобилями, догнала Кольку и вскрикнула зло, звонко: «Оккупант, что тебе надо здесь?» И азартно потянулась к его кителю, к бело-красному знаку «Гвардия», горевшему на солнце, но опустила руку, и опять подняла и опустила. Колька смотрел на неё, моргая, и не знал, что ответить: ему ничего не надо было здесь, он мог служить равно в Забайкалье, в ГДР, в Подмосковье, в ЧССР или в Монгольской Народной Республике, и он не знал, надо ли отвечать, а если надо, то что, и ему стало досадно и стыдно, как, наверное, бывало стыдно тем, кого приковывали к позорному столбу, и он понял, что люди, идущие по улице, думают так же, как эта женщина. И она, почувствовав его стыд и обиду, пошла от него, но остановилась, обернулась: «Надо знать тебе, кто ты».
Сказав это, она неловким движеньем поправила сумочку, спрыгнувшую с плеча на сгиб локтя, и вдруг зачарованно загляделась на свою опущенную руку, на ту, что тянулась к «Гвардии», загляделась, как на что-то новое и прекрасное, чего раньше у неё не было, или было, но оно никуда не годилось. И совершенно по-русски — задумчиво, продолжительно, печально и одновременно радостно, даже, может быть, счастливо, — вздохнула…
Обессиленный, мокрый, трясущийся, будто он тонул в холодном глубоком озере, Колька раскрывает и наклоняет скользкую ладонь, — и камень падает в траву.
Литовец, щурясь от солнца, щёлкнул туфлями на тротуаре, отряхивая грязь и пыль. Он решил не торопиться — нельзя допустить, чтобы солдат, оставшийся там, в яме, подумал про него что-то, — солдат не должен думать, усмехнулся парень, — и наклонился, зашнуровал потуже туфли, подтянул и обмахнул брюки, липко, в несколько раз, плюнул на платок, вытер им ладони и им же почистил испачканные туфли. Взъерошенному старику, снова показавшемуся на улице, глянувшему на него так, как глядят на придумывающих за кустами туалет, парень сказал: «Лаба диена», сказал и уставился уходящему старику в спину, дёрнул руками и вдруг представил себе старика распростёртым в яме, рядом с солдатом, а у тел их вообразил консервную банку, оттуда мухи лакают водянистый, разбавленный дождями соус, сладкий от тающих карамелей, — и пошевелил сухими, болезненными губами и облизнулся: язык его был сух, был, казалось, грязен, как платок, каким он вытер туфли. И парень представил иное, представил, что трое — он, солдат и взъерошенный старик, — сидят в яме и выпивают, пьют что-то сладкое, вкусное, пьянящее, и весело разговаривают, блестя глазами, махая руками, перебивая друг дружку, и допивают сладкое, вкусное, и им делается ещё веселей, а солдат с треском срывает со своей формы погон и объявляет, что армия отменяется, и у сидящих в яме души сливаются в большую, нераздельную душу на троих, — и тут парень подпрыгнул на тротуаре, с отчаяньем, с отвращением ощутив, как ненавидит себя, и удивился этой ненависти, — и быстро, быстро зашагал по тротуару, зашагал, глядя перед собою и не видя улицы, не видя домов, неба, а видя свои мысли.
Читать дальше