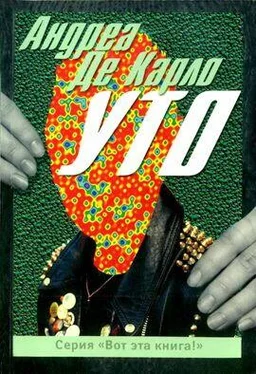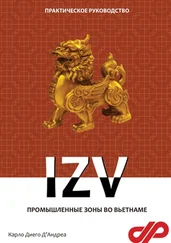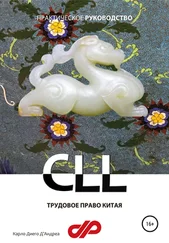– Вот уж не предполагал, что ты интересуешься музыкой, – сказал я с ехидцей и насмешливо посмотрел на нее, довольный своей ироничностью. Продолжая хмуриться, она ответила мне вопросом:
– Почему?
– Не знаю.
Мы стояли лицом к лицу, очень близко друг от друга, полные решимости и одновременно скованные смущением, готовые и наступать, и отступить. Джеф-Джузеппе молча наблюдал за нами, подогревая своим присутствием наше смутное волнение.
– Ты больше молчишь, – сказал я, – кто тебя разберет, о чем ты думаешь? – Сердце бьется короткими звенящими ударами, ощущение тепла в паху.
– А тебя? – спрашивает она и стреляет в меня глазами. – Ты тоже всегда молчишь.
– А что говорить? Давать в прямом эфире все, что в голову приходит?
Но почва у меня под ногами нетвердая, я не уверен в своем взгляде и голосе, он кажется мне чрезмерно грубым, Может, здесь очень светло, а я, как назло, опять без темных очков, может, я слишком подставился, играя Шопена, и теперь не могу с собой справиться.
Нина отворачивает голову, но ее глаза еще секунды две смотрят в мои, потом, не сказав больше ни слова, она уходит в свою комнату, а я, как дурак, остаюсь вдвоем с Джефом-Джузеппе.
Он смотрит на меня все с тем же восторженным испугом и спрашивает:
– Сколько же надо учиться, чтобы так играть?
– Нисколько, – отвечаю ему, а сам думаю о том, что было минуту назад между мной и Ниной, и о том, что мне не удалось воспользоваться ни одним из своих образов, ни одной из заготовленных заранее фраз, хотя тут бы они и пригодились.
– Ну да! Это тебе, может, нисколько, потому что у тебя такой талант.
Он вызывал у меня жалость и раздражение, потому и взгляд, и слова были не его, а подхваченные у Марианны, подмеченные у гуру или у тех, кто копирует гуру.
– Талант – это своего рода болезнь, – объясняю ему, – как дальтонизм, эпилепсия, косноязычие. Я не стремился к нему, не добивался его, я вообще не знаю, зачем он мне нужен.
Во мне вдруг поднимается безотчетное, бесформенное, темное беспокойство, просыпаются смутные желания, которые гаснут прежде, чем успевают обрести различимые очертания и приблизиться к путям их осуществления. Мне девятнадцать лет, думал я, и между мной и всем остальным пропасть, которая, вместо того чтобы с годами уменьшаться, все увеличивается и увеличивается. Окружающая меня реальность похожа на оглохший и ослепший рояль, который не реагирует на легкие касания клавиш. Надо бить по ним со всей силой, отбивая пальцы, тогда, возможно, и выжмешь хоть какие-то звуки.
Досадуя на себя, набрасываюсь на Джефа-Джузеппе:
– Как ты можешь тут жить?
– В каком смысле? – спрашивает он, и его взгляд отрывается от моих губ и начинает неприкаянно блуждать по гостиной, как рыба в новом аквариуме.
– Мадонна, да вы здесь, как на луне!
– Неправда! – в его голосе слышатся панические нотки. – Здесь нормально.
– Что значит – нормально? – продолжаю я нападать, не давая ему передышки. – Почему же тогда ты так безразлично об этом говоришь? Ты сам по себе или придаток своей семьи?
– Мне только четырнадцать лет, – растерянно говорит он.
Эта его беспомощность, в которую он и сам уже уверовал, бесит меня. Какого черта он строит из себя добровольную жертву, не способную не только решать, но просто желать чего-то?
– Четырнадцать лет – не так уж и мало, – говорю я. – Если и дальше будешь вести себя, как маменькин сынок, то таким и останешься. На всю жизнь.
– Что же мне делать? – спрашивает он неуверенно своим голосом-мутантом. Ни малейшей попытки защититься, уклониться. Стоит передо мной в своей нелепой светлой одежде, купленной ему матерью, и ждет инструкций.
– Кончай быть таким хорошим, кончай склевывать без разбору все, чем тебя тут пичкают, слушать трепотню гуру, сидеть задницей на полу в вашем идиотском храме и помогать соседям. Не слушай разговоры о даре, благодатном духе, и какое тут счастье, и какая тут красота, не молись перед едой, как у вас заведено. А главное, приучай себя к мысли, что ты должен уехать отсюда при первом удобном случае, если не хочешь застрять тут навеки.
Джеф-Джузеппе опирается обеими руками на рояль и, не глядя на меня, говорит:
– Разве ты не живешь со своими в Милане?
– У меня никаких своих нет! – огрызаюсь, как собака на привязи. – Когда мне было шесть лет, мой отец бросил мою мать и, не долго думая, отправил нас из Чили. Спасибо, хоть в аэропорт проводил. Второй муж моей матери взлетел на воздух вместе с целым домом. Найденная нога оказалась самым крупным из оставшихся от него кусков. Мой сводный брат меня ненавидит. Мамаша чокнутая. Отличная семейка, одним словом.
Читать дальше