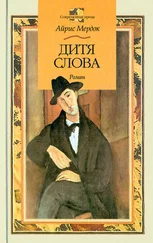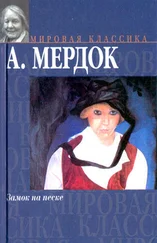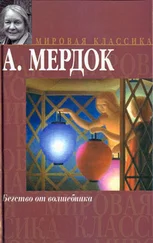Эмма автоматически встал. Он высморкался (обязательная процедура перед пением). Мистер Хэнуэй тронул клавиши рояля и предложил несколько песен. Эмма спел три песни из любимого набора мистера Хэнуэя: «Дай забыть уста твои» [120] Песня мальчика. У. Шекспир, «Мера за меру», акт IV, сцена 1. Пер. Осии Сороки.
, «Сердце горестью гнетет» [121] Песня на слова и музыку Джона Доуленда (1562–1626), английского композитора, поэта и лютниста, из сборника «Вторая книга песен» («The Second Booke of Songes or Ayres», 1600).
и «Ох ива, зеленая ива» [122] Песня Дездемоны. У. Шекспир. «Отелло», акт IV, сцена 3. Пер. Б. Пастернака.
. («Ну и мрачная же была компашка», — заметил мистер Хэнуэй.) Потом они пели вместе. Знаменитый «Клуб радости», кружок хорового пения, организованный мистером Хэнуэем и процветавший, когда Эмма впервые свел знакомство с учителем, отошел в прошлое, как и многие другие приятные вещи в жизни мистера Хэнуэя; но тот при всей своей музыковедческой педантичности сохранил прочное ощущение, что музыка — это радость. Они спели каноном «Эй, друже Джон» [123] Канон Генри Пёрселла, застольная английская песня.
, потом «Серебряного лебедя» [124] Мадригал британского композитора Орландо Гиббонса (1583–1625).
(мистер Хэнуэй извлек из себя замечательное сопрано), потом «Маните, сокольничьи, маните» [125] Застольная английская песня на музыку Джона Беннета (1570 — после 1614).
, «Азенкурскую песню» [126] Английская народная песня, сложенная вскоре после битвы при Азенкуре (1415).
, потом, импровизированными частями, «Ясеневую рощу» [127] Валлийская народная мелодия для арфы, возможно — французского происхождения.
. Эмма ничего не мог поделать — стоило только запеть, и его охватило невероятное счастье.
— Хорошо, хорошо, только не старайтесь стоять так неподвижно, я же вам уже говорил, вы певец, а не часовой, ну хорошо, некоторые певцы слишком скачут, но вы чересчур боитесь показать что-нибудь лицом или руками, не надо этой чопорности, слишком сильное чувство приличия сковывает художника, это род эгоизма, отдайтесь, расслабьтесь, дайте музыке самой петь через вас, как сказали бы японцы! И держите звук выше, выше, не думайте о своих связках — засядьте у себя во лбу, ощутите его как обширное пространство, полное пустот, пещер, где вибрируют свободные спиральные колонны воздуха! Вибрируют! Вы по-прежнему не достигли того абсолютного высокого пианиссимо, которое улетает в пространство, превращаясь в тонкий шепот чистого звука, словно едва заметно дрожит тонкий-тонкий стальной язычок камертона. Ах, вам еще столько предстоит сделать… иногда мне кажется, вы просто плывете по течению.
Увещевания мистера Хэнуэя, зачастую перегруженные метафорами, всегда сопровождались усиленной пантомимой.
— А теперь, дорогой мой, давайте займемся специальными упражнениями, а потом перейдем к «Magnificat» Баха, я хочу услышать ваше «Esurientes»…
После урока Эмма вышел на залитую солнцем улицу. Опять он не смог ничего сказать мистеру Хэнуэю. Прикрывая глаза рукой, Эмма опять ощущал оглушенность, головокружение, вертиго чудовищного одиночества и потери, где струились бесконечные молчаливые снежинки, ослепляя его и убивая всякий смысл. Он вспомнил сон — ему снилось, что он блуждает в обширных вибрирующих пещерах, в отчаянии понимая, что они ледяные, глубоко в толще ледника, и что здесь он скоро упадет на колени и умрет.
— Неужели обязательно жить в темноте из-за этих кретинских цветочков? — спросил Брайан.
— Мне хочется иметь рядом что-нибудь живое.
— А я — не живое? Хочешь, я буду залезать на подоконник, когда ты моешь посуду.
— Извини, пожалуйста, я их передвину.
— И еще, лучше бы ты не курила в кухне, ты куришь над раковиной, и дым попадает всюду…
Прошло два дня после событий в Слиппер-хаусе (тогда была суббота, а сегодня — понедельник). Габриель и Брайан завтракали на кухне в Комо. Брайан был сердит — частью оттого, что был понедельник, частью оттого, что Габриель, потянувшись ночью за стаканом воды, который она всегда держала под рукой, стукнула обручальным кольцом по стеклянной крышке ночного столика, разбудила Брайана и он не смог опять заснуть.
Адам сидел на стуле в углу, держал на коленях Зеда и почти неслышно шептал ему. Габриель, не спрашивая, знала, что говорит Адам: он объясняет, что уходит всего-навсего в школу, очень скоро вернется, а Зед пусть будет хорошей собачкой и не беспокоится. Зед каждый раз слушал эти утешительные увещевания с интересом, бодро блестя глазами и время от времени подаваясь вперед, чтобы лизнуть Адама в нос. При виде этой сцены душа Габриель наполнилась привычной смесью сильнейшей любви и сильнейшего страха, причем каждая из эмоций подстегивала другую.
Читать дальше