Между тем день за шторами все пламенней гудел жужжанием мух, одуревших от солнца. Окно не вмещало всего белого пожара, и шторы теряли сознание от собственных светлых колыханий.
Тут он выбирался из постели и какое-то время оставался на ней сидеть, бессмысленно мыча. Его почти сорокалетнее тело уже обнаруживало склонность к полноте. В организме, заплывающем жиром, измученном половыми излишествами, но все еще переполняемом буйными соками, сейчас, в тишине этой, начинала, кажется, тихо дозревать грядущая его судьба.
Меж тем как сидел он так в бессмысленном вегетативном остолбенении, весь кровообращение, респирация и подспудная пульсация соков, из глубин тела его, потного и во многих местах волосатого, разрасталось некое неведомое, несформулированное грядущее, словно бы чудовищный нарост, фантастически вырастающий до непонятных размеров. Он не поражался ему, ибо уже ощущал свою тождественность с тем неведомым и огромным, что имело наступить, и рос вместе с ним без протеста, в удивительном согласии, оцепенев спокойным ужасом, распознавая самого себя в тех колоссальных выцветах, в тех фантастических нагромождениях, какие дозревали перед его внутренним взором. Один глаз его при этом слегка сдвигался кнаружи, словно бы уходил в другое измерение.
Потом из бессмысленной этой отуманенности, из запропастившихся этих далей он снова возвращался в себя и в действительность; замечал на ковре свои ступни, дебелые и нежные, как у женщины, и потихоньку вытаскивал золотые запонки из манжет дневной рубахи. Затем отправлялся на кухню и обнаруживал там в тенистом закутке ведерко с водой — кружок тихого чуткого зеркала, которое — единственно живое и посвященное существо в пустом жилище — ожидало его. Он наливал в таз воды и пробовал кожей вкус ее тусклой и застойной сладковатой мокроты.
Долго и тщательно занимался он туалетом, не торопясь и делая паузы между отдельными манипуляциями.
Жилище, пустое и заброшенное, не признавало его, мебель и стены взирали с немым неодобрением.
Он чувствовал себя, входя в их безмолвие, незваным гостем в подводном этом затонувшем королевстве, где текло иное, особое время.
Роясь в собственных ящиках, он ощущал себя вором и невольно ходил, сам того не желая, на цыпочках, боясь разбудить шумливое и чрезмерное эхо, раздраженно подстерегавшее пустяковый повод, чтобы взорваться.
А когда, наконец, тихо переходя от шкафа к шкафу, он по крупицам собирал все, что ему было нужно, и завершал туалет среди той же мебели, с отсутствующей молчаливой миной терпевшей его, и бывал, наконец, готов, то перед выходом со шляпой в руке конфузился, оттого что и в последнюю минуту не мог найти слова, которым прекратил бы враждебное это молчание, и шел к двери смирившийся, медленно, с поникшей головой, меж тем как в противоположную сторону — в глубь зеркала — неторопливо удалялся некто, навсегда повернувшийся спиной, — по пустой веренице комнат, которых на самом деле нету.
В самые краткие сонливые зимние дни, по обоим концам — с утра и вечера — отороченные меховою каймой сумерек, когда город все дальше уходил в лабиринты зимних ночей, надсадно призываемый недолгим рассветом опомниться, отец мой был уже утрачен, запродан, повязан присягой тому миру.
Лицо его и голова буйно и дико зарастали в эту пору седым волосом, торчащим неодинаковыми пучками, щетиной, длинными кисточками, вылезавшими из бородавок, бровей и ноздрей — что придавало ему вид старого взъерошенного лиса.
Обоняние и слух отца невероятно обострялись, а по игре немого напряженного лица было заметно, что, используя чувства эти, он пребывает в постоянном контакте с незримой жизнью темных закутков, мышьих нор, трухлявых пустых пространств под полами и дымоходов.
Шорохи, ночные скрипы, тайная и трескучая жизнь полов находили в нем безошибочного и чуткого подстерегателя, соглядатая и пособника. Все это поглощало его настолько, что он безраздельно погружался в недоступные нам области, о которых и не пытался свидетельствовать.
Частенько, когда штучки незримых сфер бывали уж слишком нелепы, ему случалось, ни к кому не обращаясь, отрясать пальцы и тихо посмеиваться; при этом он обменивался понимающим взглядом с нашей кошкой, которая — тоже причастная тому миру — поднимала свое циничное холодное полосатое лицо, щуря от скуки и равнодушия раскосые щелки глаз.
Во время обеда отец, с повязанной под шею салфеткой, иногда откладывал нож и вилку, вставал кошачьим движением, подкрадывался на подушечках пальцев к дверям пустой соседней комнаты и с величайшими предосторожностями заглядывал в замочную скважину. Затем, растерянно улыбаясь, словно бы сконфуженный, возвращался к столу, хмыкал и что-то невнятно бормотал, что относилось уже к внутреннему монологу, целиком его поглощавшему.
Читать дальше
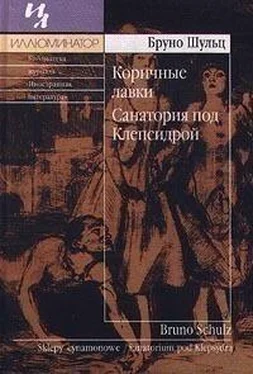


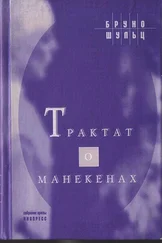



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


