Было это в поздний и запропастившийся период полнейшего упадка, в период окончательной ликвидации наших дел. Давно уже сняли вывеску, висевшую над входом в лавку. При полуопущенных жалюзи мать тайком распродавала остатки. Аделя уехала в Америку. Рассказывали, что корабль, на котором она плыла, затонул, и все пассажиры погибли. Мы никогда не проверяли этого слуха, след девушки потерялся, больше мы о ней не слыхали. Наступила новая эпоха, пустая, трезвая и безрадостная — белая как бумага. Теперешняя прислуга, Геня, анемичная, бледная и бескостная, мягко слонялась по комнатам. Довольно было погладить ее по спине, чтобы она, потягиваясь, заизвивалась, как змея, и замурлыкала, как кошка. У нее была мутно-белая кожа, не розовевшая даже с изнанки века эмалевых глаз. По рассеянности она, случалось, иногда готовила размазню из старых фактур и квитанционных книжек — тошнотворную и несъедобную.
К тому времени отец мой уже вовсе умер. Умирал он многократно, но не окончательно, всегда с определенными оговорками, заставлявшими пересмотреть собственно событие, что имело и положительную сторону. Переживая свою смерть, можно сказать, в рассрочку, отец как бы осваивал нас с фактом своего ухода. Мы сделались безразличны к его повторным возникновениям, всякий раз все более редуцированным, все более жалким. Облик уже отсутствовавшего, словно бы расточился по комнате, в которой отец жил, разошелся, создавая в неких точках удивительные сгустки неправдоподобно выразительных подобий. Обои местами имитировали судороги отцова тика, арабески принимали форму горестной анатомии его смеха, разложенной на симметричные сочленения, точно окаменелый оттиск трилобита. Какое-то время мы стороной обходили его подбитую хорем шубу. Шуба дышала. Переполох зверьков, впившихся и вшитых друг в друга, пробегал по ней бессильными корчами и пропадал в фалдах меховых пластин. Приблизив ухо, можно было услышать мелодичное мурчанье согласного их сна. В таковой форме, добротно выдубленной, с легким духом хорьков, убийства и ночной течки, он мог бы продержаться годы. Но и тут он не просуществовал долго.
Однажды мать вернулась из города с озабоченным лицом. — Смотри, Иосиф, — сказала она, — какой случай. Я поймала его на лестнице; он прыгал со ступеньки на ступеньку. — И приподняла платок над чем-то, что находилось в тарелке. Я тотчас его узнал. Сходство было бесспорно, хотя сейчас он был то ли раком, то ли большим скорпионом. Мы подтвердили это друг другу взглядами, глубоко пораженные неоспоримостью подобия, которое при всех изменениях и метаморфозах прямо-таки разительно бросалось в глаза. — Он жив? — спросил я. — Разумеется, я его еле-еле держу, — сказала мать, — может, пустить его на пол? — Она поставила тарелку на пол, и мы, склонившись, стали его дотошно разглядывать. Вдавленный меж многих своих кривых ног, он тихонько ими шевелил. Слегка приподнятые клешни и усы казались настороженными. Я наклонил тарелку, и отец в некоторой нерешительности осторожно переместился на пол, но, оказавшись на плоской поверхности, вдруг побежал всеми своими многими ногами, стуча жесткими костяшками членистоногого. Я загородил ему дорогу. Коснувшись шевелящимися усами преграды, он заколебался, после чего поднял клешни и свернул в сторону. Мы дали ему бежать в выбранном направлении. Мебели, где можно было найти убежище, на его пути не оказалось. Спеша и волнисто содрогаясь на своих многочисленных ногах, он достиг стены, и мы моргнуть не успели, как он, не промедлив, легко взбежал на нее всею арматурою конечностей. Я вздрогнул, с инстинктивным отвращением наблюдая многочленистое передвижение, с прихлопываньем осуществляемое на бумажных обоях. Отец между тем достиг маленького вмурованного кухонного шкафика, мгновение изучал клешнями его нутро, перегнулся через край, после чего целиком забрался внутрь.
С новой своей крабьей перспективы, он как бы заново знакомился с квартирой, вероятно обонянием постигая предметы, ибо, сколь тщательно я ни высматривал, я не смог обнаружить у него никаких органов зрения. Казалось, он озадачивался попавшимися по дороге предметами, замирал возле них, касаясь едва заметно шевелящимися усами, даже обнимал клешнями, словно пробуя или как бы знакомясь, однако спустя малое время бросал их и бежал дальше, волоча брюшко, несколько приподнятое над полом. Так же поступал он с кусочками мяса и хлеба, которые, думая, что он их съест, мы бросали на пол. Он же лишь наскоро ощупывал их и устремлялся дальше, не усмотрев для себя никакой в них съедобности.
Читать дальше
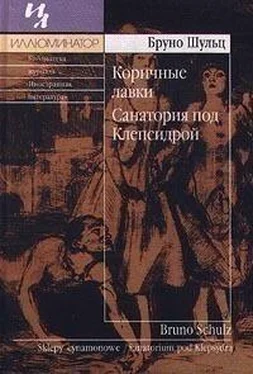


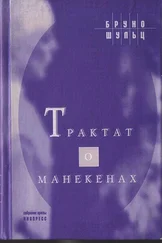



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


