Мало-помалу у него появились сторонники. Ткач был хорошим посредником, а постоялый двор и трактиры — удобным местом для завязывания связей. Отчужденное достоинство, ревниво оберегаемое Мейснером, судя по всему, от этого не пострадало.
Ему рассказали о Зелингере.
— У него дочь слепая, — рассказывали ему. — Она ослепла десять лет назад, когда наш город втянули в войну. Война была короткая, но кое-что за это время случилось.
— Вот как, — отвечал он, почти невидимый за своим холодным взглядом.
— Пришли французы, — рассказывали ему, — втащили ее в комнату и изнасиловали, хотя ей было всего десять лет. Она ослепла, но могло быть и хуже. Пусть спасибо скажет, что осталась жива. Другим, бывало, глотку перерезали, если те не умирали сами после того, как на них перебывала половина полка. Пусть спасибо скажет, она потеряла невинность и зрение, но осталась жива. От невинности, какой толк? В нашем городе немного найдется двадцатилетних, которые ее сохранили.
— И что она теперь делает?
— Теперь? А что ей делать? У нее есть фортепиано — она играет. К тому же и родители у нее есть. Отец ее вылечить не может, но он ее глаза . Наверно, он богатый, он ведь врач. Врачи все богатые, правда, ведь?
— Ее отец врач, — позднее говорит Мейснер Ткачу. — Она ослепла именно так, как надо. Ее глаза должны видеть, как у всех остальных. Никаких повреждений у нее нет.
— Да-а? — вопросительно тянет Ткач. — Да-а?
— Это как в Вене, — говорит Мейснер потом, много позднее. — В Вене, когда мне не дали продолжать.
Было что-то такое в ее повадке — Мейснер видел, как она идет рядом с отцом приоткрыв рот, чтобы вобрать в себя все, что тот рассказывает, слегка подавшись к нему, воплощенное доверие.
Может, то было случайностью. История и в этом случае отказывает нам в помощи — с невозмутимым выражением лица поставляет она факты, предоставляя нам самим их толковать. Клинический случай становится игрой в загадки, в нем отражается как рассказчик, так и слушатель.
Правда, у нас есть доступ к заметкам Зелингера об этой встрече. Мы знаем, что между ними состоялось знакомство.
Минуло шестнадцать дней после появления Мейснера в городе. Ночью шел дождь, наутро улицы были залиты водой. Мария сидит у окна и прислушивается к звукам.
И вот он идет к ней, Мейснер, врач и искусник. Он смотрит на нее издали. Небо прояснилось. Он ловко перепрыгивает через лужи, хотя с виду он не молод. Она не слышит его приближения.
— Мне рассказали про вашу дочь, — говорит Мейснер. Он заранее заготовил эти слова, и все-таки они звучат убого. Сейчас он меня выпроводит, думает Мейснер, внутренне передернувшись. Я выбрал не те слова.
— Я хочу ей помочь, — торопливо добавляет он. — Я однажды лечил подобный случай. Поверьте мне.
Так начинается их разговор.
Когда слух распространился по городу, люди стали говорить, что Зелингер сошел с ума. Другие считали, что Зелингера каким-то образом убедили: от чужака по имени Мейснер отмахнуться нельзя. Люди пытались вспомнить дочь Марию, ее облик, но вспоминали только так, как вспоминают групповое изображение: она склоняется к доктору Зелингеру, повиснув на его руке. Наверно, он в отчаянии, говорили люди, наверно, потерял всякую надежду, если отдает ее в руки приезжему врачу.
Да еще неизвестно, врачу ли, говорили они.
Рассказывали, как к Зелингерам в дом вошел Штайнер, торопливо, с озабоченным лицом. Кто-то видел, как много позже он вышел от них. Никто не знал, о чем говорилось в доме. Но слух не угас, как бывает с ложными слухами, и вскоре все узнали: Мейснер сделает попытку излечить дочь Зелингера собственным методом.
Люди рассказывали о том, что знали, а потом принимались рассуждать. Большинство на всякий случай высказывалось осторожно, выражало сомнение в исходе, во всяком случае, в разговоре с другими. Через несколько дней большинство застраховало себя на случай всех возможных исходов. Совершенный вздор, но все может быть, я сомневаюсь, но, впрочем, допускаю.
Потом, позднее, все выяснится.
Однажды вечером Штайнер сидел в погребке Вегенера. Вообще-то он ходил туда очень редко, но, так или иначе, теперь он там сидел. Его осаждали посетители — ведь все знали, что он врач и знаком с Зелингером.
— Вон, значит, как, — весело говорили они, поднимая свои бокалы и растягивая рот в улыбке, которую уже не могли или не хотели скрыть, — вот оно, значит, как бывает с лекарями, друг другу они своих детей не доверяют. Нет, значит, на свете людей без изъяна.
Читать дальше

![Юрий Москаленко - Император по Случаю. Книга пятая.Часть первая [СИ]](/books/26646/yurij-moskalenko-imperator-po-sluchayu-kniga-pyataya-ch-thumb.webp)

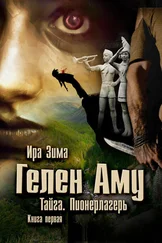




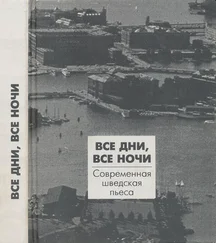
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)
![Галина Гончарова - Красная зима [? Зима гнева] [litres]](/books/433155/galina-goncharova-krasnaya-zima-zima-gneva-litr-thumb.webp)

