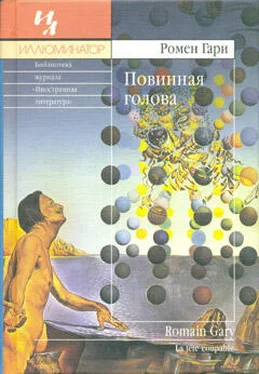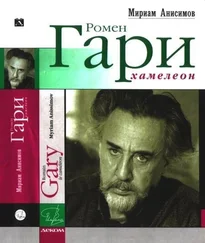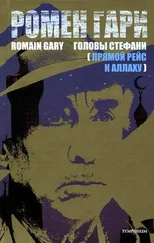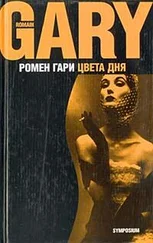Кон неторопливо катил на мотоцикле к своему фарэ, намереваясь вздремнуть. На повороте Оуа его обогнал полицейский джип и, обогнав, остановился. Двое таитянских жандармов с широкой улыбкой пригласили его следовать за ними.
— В чем я опять провинился?
— Шеф недоволен вами. Чонг Фат подал жалобу. Утверждает, что вы взломали его кассу и вытащили все деньги.
— Так, это уже не смешно!
Кон забеспокоился. Всякий раз, когда его вызывали в полицию, ему казалось, что там узнали его настоящее имя.
Рикманс помимо лукавого всезнающего взгляда и прямого пробора имел толстые губы и большой нос, безраздельно царивший посреди плоского и пошлого лица. В молодости он служил в Иностранном легионе, затем перешел в колониальную полицию. Там его деятельность совпала с таким количеством переворотов и смен режимов, что он в конце концов начал смотреть на всех мало-мальски заметных уголовников и авантюристов со смешанным чувством почтения и страха: многие из тех, кто прошел через его руки, сгинули в тюрьмах, но кое-кто выбился в большие люди, и было совершенно неизвестно, с кем имело смысл обойтись помягче в расчете на высокое покровительство в будущем. В Африке ему не раз случалось поколотить в участке будущего президента молодого независимого государства, а потом оплакивать свою роковую ошибку на груди у жены, ибо тот, кого он избил до полусмерти, стал теперь желанным гостем в Елисейском дворце и мог бы устроить ему повышение по службе и ордена.
Он жил в постоянном напряжении, ежеминутно решая для себя сложнейшие задачи: когда перед ним представал в наручниках вор, убийца или другой нарушитель общественного спокойствия, ему чудилось, что в воздухе пахнет грядущим политическим могуществом. Почтовый служащий в Конго, которого он безжалостно карал за то, что тот воровал денежные переводы, сегодня ездил с официальными визитами в Париж, и город украшали флагами в его честь. Старший бой, состоявший у него в услужении в Браззавиле, стол министром здравоохранения, а бандит с большой дороги, которого он лично отделал в Абиджане буквально в последние часы колониального режима, стал три недели спустя министром внутренних дел. Эти трагические удары судьбы сделали Рикманса совершенно никудышным полицейским: он стал нервным, нерешительным, погубил свою карьеру и угодил на Таити на мелкую должность, но все еще мечтал, что ему попадется на жизненном пути какой-нибудь хулиган или преступник, которому он, на сей раз не ошибившись, окажет покровительство. Но, увы, ничего нельзя было знать наверняка: ведь не все сегодняшние головорезы обязательно станут завтра великими людьми. Все могло оказаться ловушкой, подвохи подстерегали на каждом шагу. Хитроватое выражение, не сходившее с его лица, скрывало полную растерянность, и любому карманнику из Папеэте, которого он сам же засадил в тюрьму, Рикманс готов был украдкой жать руку, уверенный, что перед ним, возможно, будущий президент независимой Океании.
Когда он увидел, что к нему в кабинет входит смутьян номер один на всей вверенной ему территории, улыбка, полная всезнающего лукавства, разлилась по его лицу, вытеснив с него все остальное, и только нос благодаря своим размерам блистал на этом празднестве вкрадчивого доброжелательства.
— А, господин Кон… Присаживайтесь. Сигару?
Рикманс инстинктивно, даже не отдавая себе в этом отчета, не выносил «людей искусства», но он знал, что жизнь несовершенна и, следовательно, надо мириться с тем, что в Папеэте имеется лицей Поля Гогена, хотя некогда это имя было синонимом распутства, безнравственности и оскорбления государственной власти, доставивших бездну хлопот его предшественникам. Он не хотел, чтобы грядущие поколения борзописцев именовали его «толстокожей скотиной, не упускавшей случая досадить художнику, который окружил Таити ореолом красоты более нетленной, чем красота лагун». Не далее как вчера он вычитал это нелестное определение в газете «Франс-суар», и относилось оно к жандарму Шарпийе, шестьдесят лет назад занимавшему на Маркизских островах тот же пост, что и Рикманс на Таити. У Рикманса было шестеро детей, и при мысли о том, что в один прекрасный день они прочтут в газете нечто подобное о своем отце, у него по спине бегали мурашки. Он широко улыбнулся Кону и тут же почувствовал спазмы в животе — такова была непосредственная реакция организма на столь противное его природе поведение.
У Рикманса с некоторых пор появилась навязчивая идея: все чаще и чаще его мучил вопрос, как бы он поступил, если бы оказался начальником полиции в Иерусалиме и ему приказали распять Христа. Он перестал спать по ночам, жена умоляла его выбросить это из головы, напоминая, что у них и без того куча проблем. Но он не мог сомкнуть глаз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу