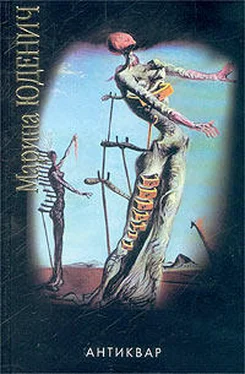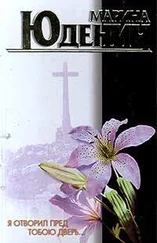На Оке, скованной мощным панцирем звонкого льда, резвилась ребятня, у проруби полоскали бельишко, звонко перекликались, пересмеивались румяные молодки.
Нарядная в снежном уборе, уютная, маленькая Рязань еще не знала, что он пришел.
Батый — ужас и проклятие соседей.
Хан Батый — воитель свирепый и непобедимый.
Родной внук великого Чингисхана, достойный его продолжатель.
Батый, решивший, что пришло время воевать святую Русь, сам с несметным войском стал теперь под Рязанью Разжег костры, разбил кибитки, устроился с полным кочевым комфортом. Кошмаром наполнился морозный воздух, предсмертным ужасом и тоской.
Знали люди — Бату не ведает жалости, жестокость его безгранична.
Забыть?!
Как можно, пусть и восемь столетий прошло, забыть тот ужас?..
Великое унижение рязанского князя Федора — он, бедолага, еще надеялся на чудо: сам торопливо, не скупясь, собрал богатую дань. С поклоном принес дары грозному хану.
Тот на подарки не взглянул, усмехаясь откровенно, смотрел в помертвевшее, осунувшееся лицо князя.
— У нас обычай. Хочешь на самом деле уважить гостя — отдай жену. Отдай, князь Федор, молодую княгиню — расстанемся друзьями.
Князь вышел молча — судьба Рязани была решена.
Но прежде решилась его судьба.
Оборвалась жизнь.
Коротким и точным был удар ятагана.
Быть может, к лучшему — мертвые сраму не имут — не принял позора князь Федор.
Не видел, как потекли по узким улочкам реки крови — горячие, алые, по белому снегу.
Смоляными факелами запылали боярские терема и палаты, дома горожан в слободе.
От самого страшного, выходит, заслонила его судьба.
Не видел князь и не узнал никогда, как, прижимая к груди младенца, шагнула вниз с высокой колокольни молодая княгиня.
Батые ва конница с гиканьем ворвалась в распахнутые ворота, затопила город.
Стон людской смешался с торжествующим визгом раскосых всадников.
Пять дней и пять ночей слились в одно сплошное противостояние, неравное, но яростное и потому — смертельное.
А утром шестого дня не стало Рязани — одно пепелище.
Черный дым застилает небо, горячий пепел носится в воздухе, серой пеленой оседая на алом, пропитанном кровью снегу.
Забыть?!
В большой нарядной юрте, устланной бесценными коврами, свирепый хан с приближенными праздновал победу.
Неутомимые воины пировали под открытым небом, у костров, что горели денно и нощно.
Будто поминальный огонь по жителям поверженного города.
Забыть?!
Как, проваливаясь по пояс в глубоком, вязком снегу, под покров дремучего леса собирались те, кто уцелел.
Как тянулся за многими кровавый след, потому что страшные раны были едва прихвачены грязными тряпицами.
Не до них было тогда — не до кровавых ран.
Хватило бы сил удержаться в седле и удержать в руках меч. А нет коня — устоять на ногах.
Но все равно — пешим ли, конным — добраться до ярких костров и пестрых юрт.
Отомстить.
Забыть?!
Как на седьмой — священный — день из заснеженного леса вывел Евпатий Коловрат ополчение.
И — будто мертвые восстали! — новая рать схлестнулась с воинством Батыя.
Был грозный хан весьма удивлен упорством и живучестью русских.
Однако ж непоколебимо уверен в своем превосходстве — потехи ради велел шурину, искусному воину, прославленному ловкостью и силой, звать дерзкого Коловрата на поединок.
Подчинился храбрый Хостоврул.
Сошлись бойцы в недолгой схватке — сорвавшись с седла, тяжело рухнул наземь Батыев шурин, и дымилась на морозе, разливаясь по снегу, его горячая кровь.
На секунду — не более — воцарилась тишина.
Но прошло мгновение — яростный крик Батыя пронесся над головами всадников, и сам он, пришпорив коня, первым ринулся вперед, проклиная убийцу.
Этот бой был совсем недолгим.
Слишком неравны силы.
Пробил страшный час — лесная дружина перебита.
Мертвый Коловрат распластался на снегу, устремив незрячие глаза в яркое, морозное небо.
В руке его и тогда зажат был грозный меч.
Батый, склонившись с седла, застыл угрюмо, вглядываясь в молодое чуждое лицо, то ли пытаясь постичь нечто, то ли запоминая.
Но как бы там ни было, он тоже был воин, грозный хан — доблесть чтил, как подобает любому, избравшему ратный труд.
Легенды гласят, по приказу Батыя был Коловрат погребен, как воин, с мечом в руках.
Шестьсот шестьдесят три года минуло с той поры.
И пришло время — память, которая никак не могла сослужить ему эту службу, совершила невозможное.
Читать дальше