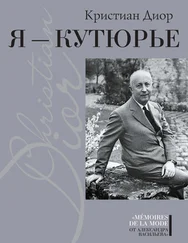Энгельхардт не доставил французам такого удовольствия: увидеть, как он будет ужинать в салоне; дождавшись наступления темноты, он съел несколько кокосов из своего мешка. А потом растянулся где-то в уголке, на корме, смотрел на черно-зеленое море, озаряемое лунным светом, и после двух или трех часов такого монотонного созерцания предался своим сновидениям, которые в последнее время становились все более призрачными и тревожными.
Поэтому он не слышал, как горланили пассажиры, как до глубокой ночи — чуть ли не до утра — развеивались над Тихим океаном отягощенные шампанским chansons: на празднично освещенной палубе «Жерара де Нерваля» пили еще безудержнее, чем когда-то на борту «Принца Вальдемара». Организм же самого Энгельхардта опьянялся только светлым, как молоко, нектаром: опаловым соком плодов кокосовой пальмы. И хотя Энгельхардт давно отказался от алкоголя (этого обычного средства для поднятия духа), само кокосовое молоко приводило его в такое возбуждение, что он даже во сне чувствовал, как кровь постепенно замещается кокосовым молоком, как по венам у него течет уже не красный, животного происхождения, жизненный сок, а гораздо более совершенный растительный сок почитаемого им плода: тот нектар, который когда-нибудь позволит ему, Энгельхардту, превзойти нынешнюю ступень человеческой эволюции… Невозможно с уверенностью сказать, что именно — кокосовая ли диета или нарастающее ощущение своего одиночества — послужило причиной душевного расстройства, уже явно заметного у нашего друга; в любом случае, потребление в пищу исключительно кокосовых орехов усилило раздражительность, свойственную ему от рождения, и постоянную тревогу, обусловленную неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые, как ему казалось, он не мог изменить.
В то время как Энгельхардт плыл на борту французского судна в восточном направлении, в Хербертсхёэ чиновники, коротко посовещавшись, решили демонтировать столицу германской Новой Гвинеи и возвести ее вновь двадцатью километрами дальше, на берегу все той же бухты Бланш, в непосредственной близости от вулкана, в местечке под названием Рабаул. Гавань Хербертсхёэ рано или поздно должна была обмелеть, поскольку подводное течение ежедневно выбрасывало в этом месте тонны наносного грунта. Как бы то ни было, в один прекрасный день город Хербертсхёэ исчез с лица земли. Власти распорядились, чтобы все постройки были демонтированы, превращены в штабеля досок и ящики с гвоздями (к которым прилагались точные строительные планы, чтобы здания потом можно было восстановить) и доставлены через тропический лес в Рабаул. Между старой и новой столицей началось муравьиное движение, добросовестно оркестрованное заместителем губернатора Халя: бесконечные мучительные перемещения туда и обратно, по ходу которых два носилыцика-туземца оказались погребены под упавшими деревьями, а еще один погиб, укушенный в босую пятку смертельной змеей, — потому что боялся уронить антикварный предмет мебели, который должен был доставить через джунгли в Рабаул. Немецких дам перевозили туда по очереди, на единственном имеющемся в столице автомобиле. Все отстраивалось очень тщательно и с молниеносной скоростью — точно в таком виде, как было в Хербертсхёэ: оба отеля, резиденция губернатора, фактории, причалы; даже нарядная новая деревянная церковь, как две капли воды похожая на недавно снесенную (если не считать портрета императора Вильгельма II, теперь по ошибке повешенного лицом к стене), была немедленно освящена местным пастором. Гунантамбу, виллу Королевы Эммы, тоже переместили в Рабаул, но поначалу не все пешеходы могли привыкнуть к тому, что теперь дорога в Китайский квартал пролегает слева от виллы, а не справа; а еще горожанам не хватало особо запомнившихся деревьев, которые прежде росли в определенных местах, и вообще жители новой столицы чувствовали себя в высшей степени дезориентированными.
Энгельхардт чуть было не повстречал Кристиана Слюттера, с которым когда-то разыгрывал шахматные партии в отеле «Князь Бисмарк» (хербертсхёэвском). Как раз в тот день, когда «Жерар де Нерваль» бросил якорь в Порт-Виле и наш друг пересел на британское почтовое судно, направляющееся к островам Фиджи, Слюттер, хотя это не соответствовало его характеру (а может быть, именно поэтому), перед одним из питейных заведений Порт-Вилы ввязался в драку с американским баптистом, который грубо оттолкнул туземца, мешавшего ему пройти. Христианин в темном засаленном костюме был двухметровым верзилой, со змеиными глазками и ручищами, словно паровые молоты: Слюттер, схлопотав по оплеухе слева и справа, рухнул, оглушенный, на землю; этот эпизод вообще не заслуживал бы упоминания — мало ли потасовок случается в любом порту, — да только рассвирепевший проповедник вытащил из сапога стилет и намеревался всадить его в брюхо распростертого на земле, издающего глухие стоны немца… Но тут на янки обрушился, поразив правую часть затылка, удар железной штанги: ее подобрал с земли (и со всей силы ею замахнулся) вовремя подскочивший туземец, за которого прежде заступился Слюттер. Сам Слюттер избежал дальнейших неприятностей, поскольку по-пластунски отполз за угол ближайшего здания, где и оставался, пока прибежавшие на шум местные жандармы не убрались восвояси, волоча за собой нарушившего закон туземца. Но Слюттер еще прежде уволок в свое укрытие единственное неопровержимое доказательство вины задержанного — смертоносную штангу с прилипшим к ней окровавленным клочком волос, — лег на эту железяку и, обессиленный, уснул; что ж, мы оставим его здесь отсыпаться, пока не настанет момент, когда он вынырнет снова…
Читать дальше
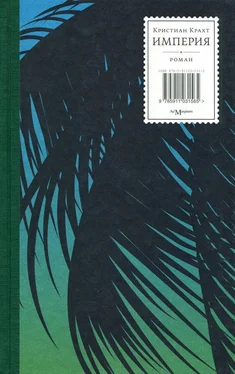
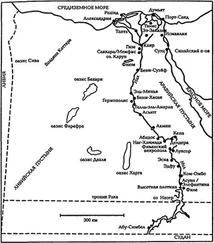
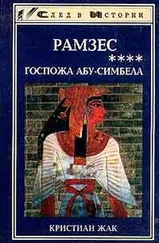
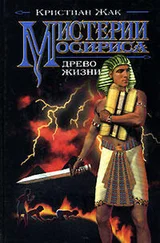

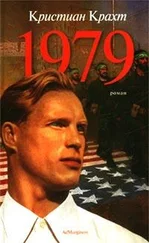



![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/337275/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov-thumb.webp)