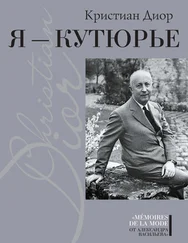Однако все это не трогало Энгельхардта: ведь он как раз собрался ускользнуть не только от начинающегося повсюду модерна, но и от совокупности того, что мы, не-гностики, включаем в понятие «прогресс» или даже «цивилизация». Энгельхардт делает решающий шаг вперед и ступает на землю острова — но в действительности это шаг назад, в самое изощренное варварство.
Первая его хижина была построена по образцу туземных жилищ. Однако прежде появился Макели: мальчик лет тринадцати, который после полудня упрямо, хотя и не без робости, преодолел мангровые заросли, ступил на светло-песчаную сцену, где разыгрывалось действо Энгельхардта, и с той поры уже не отходил от нашего друга ни на шаг. Следом за Макели пришли шестеро туземцев и показали Энгельхардту, как нужно переплетать пальмовые листья, чтобы получились стены и крыша хижины. Они подарили ему фрукты, которыми он утолил жажду, и дали набедренную повязку: он разделся догола, а они обернули полотнищем нижнюю часть его туловища и концы ткани связали под пупком; солнце палило с немилосердной яростью, и вскоре плечи у нашего друга обгорели.
Макели очень удачно выбрал место для будущей хижины; туземцы прорубили просеку — от берега через заросли до этой площадки, — вбили опорные столбы в болотистую почву (которую прежде, после вырубки леса, на несколько часов оставили сушиться на солнце), а потом принялись связывать одну с другой изготовленные тем временем циновки из пальмовых листьев. Энгельхардт — чью робость, делавшую его столь мало приспособленным для жизни в нашем мире, теперь, когда он очутился в кругу этих дикарей, будто сдуло прочь теплым веселым бризом — с усердием участвовал в совместной работе плетельщиков. Время от времени он спускался к берегу и, зачерпнув в горсть прохладной морской воды, выливал ее на саднящие плечи. Маленькие голые дети каждый раз бежали к морю впереди него, чтобы броситься, визжа и хихикая, в волны, — и Энгельхардт смеялся вместе с ними.
В первую ночь на острове он спал прямо на полу, на песке, который сам принес в хижину и насыпал на еще сыроватый глиняный пол; поворочавшись с боку на бок и совершив еще какие-то неприятные телодвижения, он решил, что все-таки предпочел бы спать на возвышении — на кровати или плетеном топчане. Песок хотя и был мягким, но, как только наш друг принимал любимую позу зародыша, проникал ему в ухо. Если же Энгельхардт ложился на спину, то ощущал, как песок раздражающе колется, царапает затылок и застревает в длинных волосах (от жары и влажности резинка для волос давно утратила эластичность и раскрошилась). Не успел он успокоиться, сказав себе, что сегодня ночью уже не сможет ничего сделать, чтобы спать было удобнее, зато завтра с утра подумает, как смастерить кровать (и с этой мыслью о своем буддийском равнодушии к неудобством задремал, умиротворенно улыбаясь), как его атаковали сотни москитов, нанося множество крайне болезненных уколов. Жалкий и беспомощный, он долго тщетно пытался прихлопывать своих незримых в темноте врагов, а затем все же сдался и поджег кокосовую циновку, едкий дым от которой, хоть и прогнал из хижины непрошеных гостей, вызвал у самого Энгельхардта столь сильный приступ кашля (не говоря уже о непрекращающемся потоке слез), что он зарылся лицом в прохладный песок и в ярости считал часы, остающиеся до рассвета, — пока наконец первые лучи солнца не проникли сквозь щели в бахромчатых стенах хижины.
На следующий вечер он вспомнил о москитных сетках, привезенных из Хербертсхёэ, извлек одну из картонной упаковки, расправил и очень тщательно подвесил к стенам и потолку хижины. Заметив, что в одном месте образовался разрыв, он тут же заштопал его двумя-тремя искусными стежками. Потом на пробу улегся под сеткой и усмехнулся, подумав о своей несгибаемости: другой на его месте, возможно, уже прикидывал бы, не пора ли возвращаться назад. Энгельхардт, больше всего боявшийся подцепить малярию, надеялся всей душой, что прошлой ночью его не укусило инфицированное насекомое; с другой стороны, он понимал: такова цена, которую приходится платить за пребывание в здешних краях. Во Франконии, конечно, крайне редко случаются болезни, которые приводят к таким ужасным последствиям; зато там люди страдают от страшного духовного недуга: от внутренней, неисцелимой трухлявости, разлагающая сила которой, подобно раковой опухоли, мало-помалу изничтожает душу…
Жители Кабакона — о чем нельзя не упомянуть — даже не подозревали, что маленький остров, на котором они живут с незапамятных пор, теперь принадлежит не им, а тому юному waitman’y, которого они, по настоянию Боткина, приняли столь дружелюбно, которому построили хижину и каждодневно приносили фрукты. Сам Энгельхардт поначалу тоже не собирался строить из себя грозного островного короля, однако однажды вечером, возвращаясь домой после разведывательной прогулки вокруг двух лесистых холмов, он застал такую картину: на просеке местный мальчишка крепко держал за хвост пойманного им черного как смоль поросенка. Подошел молодой туземец, занес тяжелую дубину и с треском обрушил ее на голову кабанчика, который с жалобным визгом тут же упал, бездыханный, на землю. Над кабанчиком теперь склонились три или четыре темнокожие женщины: вскрыв тушу острым черепком, они выбросили из нее внутренности и принялись тщательно выскабливать нутро.
Читать дальше
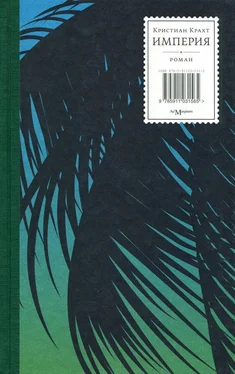
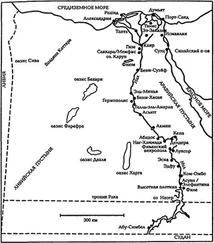
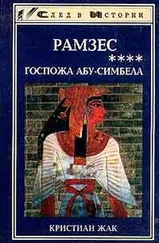
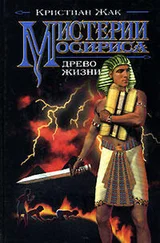

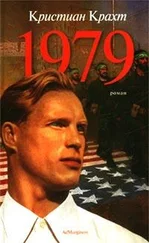



![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/337275/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov-thumb.webp)