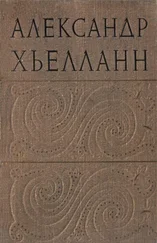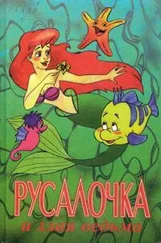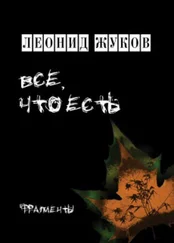Когда после концерта я пробирался сквозь толпу, чтобы поделиться с нею впечатлением, она повела себя сухо — на то были причины: она знала цену увлечениям, да еще была скромна. Уж не похожа ли любовь человека на любовь к богу? В самом деле, что это за чувство и по чьей воле оно зарождается? Многие не знают его, для большинства любовь непосильна…
Знаю твердо, что несчастная моя любовь напрасна, что между нами ничего не может быть в силу обратного устройства моей избранницы, что мне с ней будет трудно, а потому мы не уживемся и расстанемся так же легко, как и сблизились. Знаю, что она не принадлежит к числу тех, кто может избавить меня от одиночества, тем более что мне суждено прожить в этом одиночестве, как узнику Бастилии, который дружил с тараканом. За любовь платят ненавистью, а поэтому заранее готовлю себя к разрыву с ней, жертвую частью сердца, испытывая при этом невосполнимую утрату в нем, чувствую, как оно черствеет, и каждая новая любовь оставляет на нем след, зарубку, неизгладимые шрамы, напоминающие годовые кольца…
Она была хорошей пианисткой, знающей свое ремесло, но могущественным талантом не обладала, к тому же была испорчена до мозга костей современным воспитанием. Будучи во многом ограниченной и стесненной обстоятельствами, она считалась с общественным мнением и не умела жертвовать, но милый нрав и скрытность характера разжигали мой эгоизм и забирали меня в плен, заставляли неотступно думать о ней. Она не умела скрывать свои чувства, горячечно вспыхивающие на ее лице, и приходила в замешательство, когда аккомпанировала мне сладкого Шпора, музыка которого напоминала алмазную чашу, наполненную человеческими слезами.
Умудренный опытом, я не стал проявлять себя перед ней, а решил предоставить инициативу ей самой, ибо знал, что любовь не спрашивается с достоинствами того, кого любишь, — она посылается свыше.
В училище, где нас свела судьба, учился непутевый Баклаженко, ставший всем обузой. Пьяный, он лез целоваться к собаке. Это был какой-то «импрессионист жизни»: за короткий век сменил столько жен, что не помнил их по имени. Он не мог прожить дня, чтобы не обмануть и не украсть. Он любимец всего училища. У него голубые глаза, разбавленные водичкой, и яркие губы, как у рака. Длинные кривые ноги настолько сильные, что, когда ветер прижимает брюки к его икрам, рисуется лошадь, которую тянут за хвост. Баклаженко — прирожденный артист, он так виртуозно обманывает и притворяется, что безобразные девки идут за ним на край света.
Однажды он пропьянствовал целый год и не стал сдавать экзамены. Нужно было задобрить педагогов, чтоб они поставили ему оценки. Для этого он принес джазовую пластинку, на которой была изображена пьяная негритянка с мрачными лиловыми губами на фоне, напоминающем геенну огненную. Она целых полчаса надрывалась хриплыми тенезмами и издавала дьявольские звуки.
Вкусы педагогов были учтены правильно. Эту пластинку он где-то спер. Ссутулившись, принес проигрыватель с длинным спутанным шнуром, хитро завладел классом, который никогда не бывает свободным, и, напустив на себя скромность, пригласил педагогов: вышел и объявил:
— Все готово, заходите!
Педагоги расселись полукругом, как на какой-нибудь «шубертиаде», и стали благоговейно слушать. Они томно закрывали глаза, блаженно улыбались, будто это была колыбельная, и усматривали в воплях негритянки «новые гармонии».
Среди них была и моя пассия. Она так и просидела с глупой физиономией, не зная, хорошо это или плохо. Она не подала виду, что ее одурачили, но твердо заявила, что ей это понравилось. Пластинка была огромной, из-за нее сорвались уроки и нарушилось расписание. Но «Демьянова уха» была прослушана терпеливо, как длинная опера.
Я тоже должен был присутствовать при этой инквизиции, потому что мы с ней в тот день должны были играть, и я по долгу вежливости не смел пренебрегать компанией концертмейстера. А вообще я воспользовался случаем не разлучаться с ней.
Глядя на это безумие, я был настолько удручен, словно попал в бордель. Порой мне казалось: не снится ли мне все это? Я просидел нахохлившимся вороном, с ненавистью переводя глаза с одной девчонки на другую, и поражался их ничтожеству. Эти педагоги, работавшие на сапоги, не знали литературы и преподавали теоретические предметы, в которые ударяются несостоявшиеся музыканты; они сдирали по три шкуры со студентов, которые бегут от этих предметов, как черт от ладана.
Читать дальше