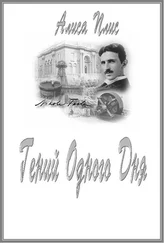«К вам это, конечно, не относится, — шептал он, выпячивая губы и делаясь похожим на барсука, — но знаменитость можно сделать даже из пустого места…»
И Кавадраш просыпался в холодном поту.
Дело своё Моисей Яковлевич знал, и Кавадраш вошёл в круг избранных, которые делят между собой все премии и говорят только о своих. На пленэре его окружали репортёры, а в подъезде караулили почитатели. Постепенно он привык к сравнению с великими, разрывался между телевидением, презентациями, выставками и уже подумывал нанять молодых художников, которые бы копировали его манеру. Но таких не нашлось — реализм сменила абстракция. «Дружище, зачем портрет — фотоаппарат же есть!» — хлопали его по плечу представители новых течений.
И Давыд уже откровенно халтурил, в душе называя себя «мазилкою», стыдился своего ремесленничества.
Но инициалы ставил. И тогда за неудачные наброски дрались музеи, а коллекционеры выкладывали за холсты огромные суммы, так что Кавадрашу казалось, будто вместе с ними покупают его самого. Слава о нём облетела край. «Слыхал, — встретили его на реке, — какой
известный у тебя однофамилец!» Давыд поморщился, ему захотелось всё бросить и вернуться на пристань насовсем, но жизнь — это поезд с билетом в один конец. О. Савелий осунулся, стал глуховат, раздражителен и громко кричал, когда ругался со служками.
— Нет старика — купил бы! — крепко обнял его Давыд.
И протянул деньги: — На храм…
— Храм не в брёвнах, а в рёбрах! — покраснев, оттолкнул его о. Савелий.
Бывали у Давыда и дамы. Перед их визитами он заботливо выстригал в ушах волосы и закрашивал предательскую седину. «Возраст компрометирует… — стряхивал он на ковёр пепел с дорогих сигар. — Чтобы видеть красоту мира, надо быть слепым…» Женщины восхищённо кивали, а утром, застёгивая платье, просили картину.
Одевался Кавадраш в респектабельных салонах, тщательно выбирая костюм, долго вертелся перед зеркалом, зная, что покупает его на один раз. «Положение обязывает!
» — улыбался он, а про себя думал, что люди слепы, что они примеряют жизнь тех, кого видят снаружи, а не того, кто живёт внутри.
Дни барабанили, как дождь, и Давыд пропускал их через себя, как дырявый зонтик. Раз хмурым, осенним утром к нему позвонили. Он ждал журналиста и, отщипнув от краюхи, открыл с мякишем за щекой. На пороге сутулился крепыш с косым шрамом, а за его спиной те, кто приходили к Давыду на пристани. Давыд попробовал захлопнуть дверь, но крепыш просунул ногу.
— Правда, я — тыринс-протыринс? — ухмыльнулся он. — А вот ты, похоже, притыринс…
Его подручные взяли Кавадраша за бока.
— Предупреждали же, у шефа железная хватка, — зашипели слева.
— Шкуру спустит, — наступили на ногу справа.
В комнате стояла мёртвая тишина, и только прижав ухо к оконному стеклу, можно было различить, как на бульваре падали исхлёстанные дождём ветки, как лаяли спущенные с поводков собаки и как, разбрызгивая лужи, обгоняли свои тени авто.
Крепыш достал пистолет.
— Ты мне должен… — растягивая слова, почесал он рукояткой белевший шрам. — А по счетам платят…
Кавадраш покрылся потом.
— Я верну, — всё ещё жуя хлеб, зашептал он, не слыша себя. — С процентами…
— А по ним много набежало! — оскалился крепыш. — Можно купить твою жизнь, которая больше ничего не стоит…
Кавадраш широко открыл глаза, точно увидел вылетевшую с глухим выстрелом смерть. Посреди комнаты на картине медленно текла илистая река, над которой кружил нарисованный ветер, и он успел подумать, что его живопись теперь подскочит в цене.
Было пасмурное, дождливое утро. Сняв рыбацкие сапоги, Кавадраш вытянул ноги к гудевшей печке и, доставая из полосатого чемодана пачку за пачкой, швырял в бушевавшее пламя отсыревшие банкноты…
Жена зашла в купе: «Чемодан наверх не ставь — не с твоим радикулитом…» И стрельнув глазами в съёжившуюся у окна попутчицу, развернулась на каблуках.
Поезд тронулся, поплыли провожающие, низкая платформа, далеко светивший в темноте вокзал. Глубокой осенью ездят мало, и в купе мы остались вдвоём. Познакомились легко, едва замелькали огоньки.
— Что же это, Ксения, за город такой Себеж?
— Древний, древнее Москвы…
А доехав до Волоколамска, я уже знал про её маленькую дочь, стареющих родителей, пушистого, вороватого кота. С провинциальной откровенностью она рассказывала про своё детство, как помогала матери по хозяйству, вечерами вязала, а всех радостей — книжки да мечты.
Читать дальше