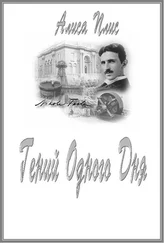И вдруг на её пустой свет клюнул Иегудиил, с которым Петька сидел за партой. Они были одногодки, но Иегудиил успел вытянуться, как осока, и погрустнеть, как река.
Он был, как плакучая ива, про таких говорят: однажды не смог понять, что проснулся, и с тех пор живёт во сне.
«Дурак!» — дёрнул его за штаны Петька. Учитель завернул лицо в ладонь, как в носовой платок, сквозь который змеилась улыбка. «А ты, почему не донёс? — близоруко щурясь, скомкал он Петькино ухо. — Я из вас сделаю граждан!»
Их заперли в сарай длиной не больше семи локтей, в котором мир представлялся таинственным, как темнота, которую носят в кармане. Они вышли оттуда, спотыкаясь о собственную тень, и долго стояли под яблоней, подбирая падалицу и поддавая огрызки босыми ногами.
И стали свободными, как стрелка в сломавшихся часах.
Поначалу Петька ещё выдёргивал перо из шипевшего гуся, садился в поле и под стрёкот кузнечиков представлял, как его будут пороть. Но когда это случилось, всё пошло своим чередом: мыши по-прежнему проедали дырки в карманах, а жизнь текла ветерком по ржи.
И всё встало на места: хромой воспитатель, сосчитав однажды глотками бутылку водки, разбил её о плетень и вскрыл себе вены, родители не пережили своих болезней, братья разбрелись куда попало, а Петька стал промышлять на ярмарках и нахальничать в кабаках. Заломив картуз, он ходил по базару, затыкая за пояс мужиков, и лез бабам под фартук. Для вида он бойко торговался, вытаскивая гроши, которые берегли, как зубы. Случалось, ему фартило, и деньги, как мыши, сновали тогда по его карманам. Он спускал их тут же, не успев распробовать вкуса, просыпаясь в постелях женщин, имён которых не знал. Накануне он представлялся им купцом, клял их убогую жизнь и обещал, что утром увезёт за тридевять земель. Женщины всплескивали руками, прикрыв рот ладошкой, ахали, а когда он засыпал, плакали.
В Бога Петька не верил. «Устроилось как-то само…» — думал он, глядя на бегущие по небу облака и шумевший под ними лес. И жил, как зверёк, в этом лесу.
Бывало, он засыпал богачом, а просыпался нищим. Но, засыпая нищим, всегда видел себя богачом. «Да у меня сам квартальный брал под козырёк!» — бахвалился он во сне и слышал, как кто-то невидимый рассыпался тогда смехом:
«Эх, козырёк, козырёк…»
В городе Петька ходил в синематограф смотреть комика, который уже давно умер, но, беседуя с Богом, продолжал кривляться на экране. «Чудно.…» — чесал затылок Петька и опять вспоминал, что время у каждого своё. Теперь он думал руками, а ел головой. И всё чаще видел во сне мужчину с женскими бёдрами и женщину с глазами, как ночь.
А потом пришёл суд, плети и каторга с одним на всех сроком, одной ложкой и одними слезами. Петька вышел оттуда седым, как расчёска, набитая перхотью, и принялся за старое.
В отличие от Петьки, овладевшего единственным ремеслом, Иегудиил стал мастером на все руки. В драной, пыльной рясе он ходил по деревне, совмещая должности звонаря, пономаря и богомаза. В народе Иегудиил считался малость не в себе. «Вот стрела, — бывало, учил он, сидя на бревне и чертя в пыли веткой, — тетива забывает о ней, и она свистит, пока не застрянет, как крючок в рыбе, или не потонет, как месяц в туче. Так и слово…
Слова, как птицы, — рождаются в гнёздах, живут в полёте, а умирают в силках…» Он изощрялся в метафорах, подбирая сравнения в деревенской грязи, а заканчивал всегда одинаково: «Слово, как лист, гниёт на земле и сохнет на ветке, а живо, пока летит…» Он мог распинаться часами, но слушали его только бредущие с пастбища козы, да деревенский дурачок с тонкими, как нитка, губами.
Навещал он и учителя, тот постарел и лежал теперь, разбитый параличом, шевеля глазами, как собака. «События тусклы, как лампада, — говорил ему Иегудиил, — это
люди возвышают их до символа. И тогда их слава, как тень на закате, оборачивает землю, зажимая её, точно ребенок, в свой маленький, но цепкий кулак…»
Пробовал философствовать и Петька. Раз на голой, как палка, дороге, когда этап отдыхал после дневного перехода, он встретил бродягу, сновавшего между деревнями за милостыней. Повесив на клюку котомку, нищий опустился рядом с Петькой. Он поделился с ним хлебными крошками, а Петька — солью, которая была их крупнее.
Еду жевали вместе с мыслями. «Вот галка летит, попробуй, приземли её… — чесал до плеши затылок Петька. — Мир сам по себе, а человек — сам…» В ответ бродяга кинул клюку и перешиб птице крыло. С тех пор Петька понял, что его речи скликают неудачи, а счастье убегает от них, как от бубенцов прокажённого.
Читать дальше