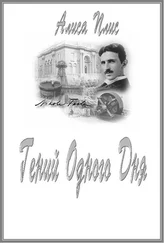Проходил час, другой.
— Ладно, не сердись, — раздавалось, наконец, за дверью.
— Это я так — мне твоя жизнь, в сущности, по барабану…
В юности Стратилат Цибуль был очень деятельным.
Он мечтал летать на работу, как птица, а бегал на неё, как псина. Но с тех пор много воды утекло. Подмечая за ним странности, от него быстро освобождались, и он шёл на улицу вместе со своим креслом. Теперь он кропал статейки, у которых был единственным читателем, и писал в стол романы, от которых ломило зубы. Он говорил:
«Я не продаюсь». Но его не покупали. Он гордился, что не похож на других. Но был интересен только себе.
Так и шла череда его дней, бессмысленная, как численник.
Луна была в Рыбах, ночь пришла вперёд звёзд, которые были бесконечно далеки от своих отражений в воде.
— Хорошо быть приговорённым, — захлёбывался желчью Марат, — знать, что тебя повесят и встретить смерть лицом к лицу. Ночь длинна, можно подвести черту, больше не лгать, не страшиться, не плакать, не надеяться…
— Только не забудь справить нужду, — бурчал Авессалом, беззлобный, как старая крапива, — а то на верёвке обгадишься и сдохнешь под собственную вонь…
Сумрак наслаивался на сумрак, как масло на хлеб, ночь лютовала, и только копеечная свечка храбро сражалась с ней.
С тех пор они не разговаривали, оставляя друг другу записки.
«Ох, до чё ж ты нерьвный, дядя, — рубил Марата размашистый, как сабля, почерк, — чисто муха на стекле…»
«О тебе пекусь!» — оправдывался он. Но его приканчивали грамматикой: «Ой, тока не нада этова другим задвигай эту фишку а мне лутше бабки оставь…»
И Марат чувствовал свою вину. Авессалом был его сыном, который после развода взял фамилию матери.
Первого января Марат приобрёл новый численник.
Заспанный, чернявый продавец долго его расхваливал, горбясь на стуле, выставлял достоинства перечислением недостатков, которых он не содержал. Он мял календарь в руках, словно от этого росла его стоимость, так что, когда назвал цену, чуть было не упал со стула. А провожая, хитро подмигнул. «Все мы заложники чужих хроник», — услышал себе вслед Марат. Обернувшись, он ещё раз окинул взглядом пыльную лавку с покосившимися от книг шкафами и продавца в чёрном платье, скрестившего руки на животе.
А дома не удержался. Изменяя правилу, открыл календарь и прочитал на первой же странице: «Одни следуют Библии, другие — Корану. Для Марата Стельбы такой книгой стал отрывной календарь». И дальше не мог оторваться.
Это был рассказ о его затее, повесть, в которой он действовал, как литературный персонаж.
«Одни закладывают жизнь двуглавому идолу — семье и работе, — читал он, — другие посвящают её Богу, третьи — пускают на самотёк. Перепробовав все рецепты, Марат выбрал самый абсурдный, вручив судьбу календарю. Он доверялся его подсказкам, его тёмным пророчествам, в которых был себе и жрец, и жнец, и на дуде игрец. Он в прямом смысле жил «с листа»: то целый вечер бился над пасьянсом или чинил по инструкции испорченный глобус, то спал сутками напролёт. Жизнь — это бег с препятствиями, а Марат, вместо того, чтобы перепрыгивать, обходил их. Но если раньше он страдал от своего бессилия, то теперь нет».
Марат скрёб ногтем страницу за страницей, натыкаясь, как на иголки, на дни, подчинённые календарю, воскрешая прошлое, которое с каждой строкой приближалось к настоящему.
«Все мы заложники чужих хроник», — подводил черту численник.
Читать дальше Марат не решился: знать будущее — значит уже прожить его.
Схватив календарь, он бросился в лавку.
Продавец уже вешал замок, потянув на себя дверную ручку, доставал из широченного кармана ржавые ключи.
Марат открыл рот, но слова застряли в горле. «Подержите!
» — сунул ему ключи продавец, продолжая возиться с замком. Марат застыл, как вопросительный знак, слушал скрежет железа, и ему хотелось влепить продавцу пощёчину.
Но обе руки были заняты. Наконец, лавочник освободил их, взяв численник, который опустил вместе с ключами в карман.
«И правильно, что не стали дочитывать, — зевнул он, возвращая деньги. — Ничего любопытного — все помрём…»
И повернувшись, застучал каблуками по мостовой.
Каждый брак снаружи ужаснее, чем изнутри. Как город после бомбёжки, он кажется пустым и мёртвым, но под развалинами ещё теплится жизнь, там ползают калеки, которые прилаживают увечья к костылям, пытаясь выдать протезы за живую плоть.
Стратилат Цибуль был женат. «Мир стоит на трёх китах — зависти, похоти и корысти, — задирал он вверх палец, расхаживая по кухне в рваных тапочках. — Он взывает к животу, а одет в пошлость и лицемерие…» Слушая про устройство Вселенной, домашние крутили ему у виска.
Читать дальше