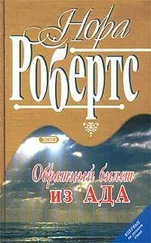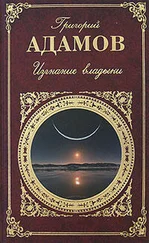Старая масляная краска в ванной отпотевала, шла пузырями. И Виктор нисколько не удивлялся. Ванная, где складировались все эти флаконы, явно нервничала не меньше его самого. Парфюмы жаждали применения. Утром, когда Виктор выходил из ванной и собирался идти в университет, рядом вдруг вырастала мать с флаконом, щедро плескала себе на ладонь и норовила мазнуть Виктора по затылку.
— Немножко одеколона тебе не повредит, — говорила она, — создает ощущение ухоженности, давай, раз уж не хочешь идти в парикмахерскую!
Виктор шарахался от нее, кричал:
— Оставь меня в покое!
А она трясла возле него флаконом, примерно как гонщики при чествовании победителей встряхивают бутылки с шампанским, разбрызгивая вино.
Ему нужно собственное жилье. Но это была всего лишь потребность. На самом деле еще не настоятельная необходимость. Он ничего не предпринимал, снова и снова думал об этом и говорил, а затем с демонстративно скрытой враждебностью страдал от материна вердикта:
— Ну что же? Собственное жилье? Если ты можешь позволить!
Однако после пощечин он начал искать жилье. Пусть даже придется взять кредит и заставить отца за этот кредит поручиться.
Пощечины. Ребенком Виктор трижды получал от родителей колотушки. Это был третий раз, от матери — второй. Он уже вышел из детского возраста, но мать била ребенка, которого не имела и получила из интерната уже юношей. Накинулась на своего студента с яростью, в которой ее боль из-за того, что она проморгала детство собственного ребенка, была куда сильней боли, какую она причинила ему. Хлоп! В самую точку! И всего-то потому, что Виктор побывал в «Диком Западе»…
«Пойдешь со мной в гостиницу?»
Виктор случайно встретил Хилли в университете. Теперь ее звали Гундль. Впрочем, вовсе не по этой причине она показалась Виктору совершенно не такой, какой он видел ее последний раз, еще в школе, не то шесть, не то девять месяцев назад. И дело не в том, что она теперь носила короткие волосы. Что же изменилось? Он с трудом поддерживал разговор, потому что, глядя на нее, изо всех сил искал ответ на вопрос: что, если отвлечься от внешних деталей вроде короткой стрижки, не совпадало с воспоминанием, даже когда он отбрасывал все идеализирования, к каким вообще имели тенденцию его воспоминания о ней? Она стала меньше. Убавилась в размере. Он вдруг это заметил, когда она спросила: «Слушай, ты вроде бы еще вырос? Я запомнила тебя не таким высоким!» В самом деле, он, Виктор, вырос на несколько сантиметров с тех пор, как открылись ворота интерната. Его тело словно бы стремилось наверстать то, что было в нем заложено, однако во времена, когда он съеживался, стремился стать маленьким и неприметным, находилось под запретом или по меньшей мере представлялось нежелательным. Без сомнения, случай необычный, но не настолько, чтобы заинтересовать науку. И к примеру, отец вообще не обратил внимания, что его восемнадцатилетний сын резко вырос. Если не считать реплики: «Почему, собственно говоря, Мария надумала покупать тебе короткие брюки? Просто потому, что покупать на вырост больше незачем?»
Но и это опять же не объяснение. Не главное. Хилли, или Гундль, казалась меньше не потому, что он вырос на несколько сантиметров. Она объективно уменьшилась. Эта красивая, гордая, самоуверенная девушка, на которую он всегда смотрел снизу вверх, даже когда был меньше, чем теперь, но все равно выше ее, эта персонификация его в буквальном смысле высокой любви здесь, в старинном, почтенном здании Венского университета, казалась потерянной, такая маленькая под высокими аркадами, прямо-таки съеженная среди самоуверенных, шумных ветеранов шестьдесят восьмого. Школа и университет — разные миры. Хилли, так сказать, была первой на деревне, а вот Гундль в городе не то что до второй не дотягивала, но прямо-таки растворилась в массе. У Виктора у самого хватало причин для неуверенности, и он прекрасно чувствовал, что делало Гундль такой маленькой, а с другой стороны, замечал, что при всем своем страхе, при всей нервозности и беспомощности сам может здесь вырасти, может освободиться. Здесь съеживаться бессмысленно.
Гундль была так дружелюбна, так отзывчива. Сколько рассказов у них накопилось. Будто лет двадцать не виделись. А ведь обоим только-только сравнялось восемнадцать.
Виктор ежемесячно получал по тысяче пятьсот шиллингов от матери и от отца, на учебу. Сто шиллингов в день. Пачка «Паризьен» стоила девять шиллингов, «Винер курир» — один шиллинг. Кофе в кофейне — девять шиллингов: десять! Сдачи не надо! Книга в бумажной обложке — около тридцатки. Потребности у Виктора были скромные, по крайней мере пока он не натыкался носом на новые, которые безусловно испытывал, но просто не знал о них. Кое-что от карманных денег оставалось. Правда, слишком мало, чтобы снять собственное жилье. Для музилевского «Тёрлесса» Виктор за считанные дни нашел новую жертву. Однокурсник купил у него эту «скандальную вульгаризацию интерната» (так решил для себя Виктор) за пятнадцать шиллингов — так что убыток оказался невелик. В общем, Виктор и Гундль вдруг очутились в «Батценхойзле», ресторанчике напротив старого университета, и пили там красное вино за семьдесят шиллингов, сдачи не надо! Брешь в жизни Виктора, и не только финансовая. Он бы никогда не дерзнул задать этот вопрос, который сейчас вырвался, нет, совершенно естественно слетел с языка:
Читать дальше