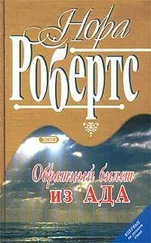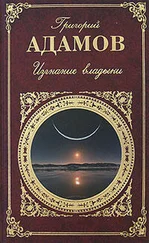— Жили ли вы, твоя семья и ты, по закону Моисееву?
Мальчик не знал, что такое «Моисееву», но насчет «закона» сообразил и тем более хорошо понимал: разумнее жить по закону, подчиняться порядку и установлениям оного — разве же они не старались?
Мане кивнул.
Господин посмотрел на него. Так-так.
— Ха шимха?
Мане опять не ответил. Не понял. В конце концов тот, что привел его сюда, сказал:
— Его имя — Мануэл Диаш Соэйру, отче!
— Почтенное, красивое имя. Должно его стереть?
— Приговор еще не объявлен, отче!
— Тогда не будем опережать события. Итак, воспитанник Мануэл. Извольте ознакомить воспитанника со всем, чтобы он нашел здесь у нас свое место и смог влиться в жизнь, которую вскоре осознает как счастье. Есть еще вопросы?
— Отец?.. — Мане хотел спросить о своем отце, о матери, о сестре, где они, и когда он снова их увидит, и как ему с ними связаться, но уже после слова «отец» совершенно обессилел и умолк. Господин за письменным столом, однако, истолковал это не как вопрос, а просто как обращение — смышленый мальчуган, быстро учится! — и благосклонно сказал:
— Все будет хорошо, сын мой!
Так Мане оказался в иезуитской школе.
Звучало все так логично, простая необходимость, вызванная обстоятельствами: родители в разводе, оба работают, стало быть, ребенка надо определить в интернат. Однако Виктор никогда не сможет ни понять, ни принять эту логику, вот и нынешним вечером, спустя двадцать пять лет после выпуска, спустя четверть века после «освобождения» из закрытого заведения, когда Хильдегунда заговорила об этом, ему стоило большого труда не впасть сию же секунду в бешенство и жалость к себе. Вдобавок он слишком много выпил. Одних алкоголь делает агрессивными, других — плаксивыми. Виктор принадлежал скорее к второй категории. Но только когда его спрашивали об интернате или напоминали о нем, он мог сплавить воедино обе классические реакции на алкоголь. В таких случаях его самобичевания грозили превзойти необузданностью даже самые грандиозные выверты Opus Dei, а резкие упреки по поводу преступных действий, жертвой которых он стал, были куда непримиримее австрийской критики австрийских же писателей. Сейчас он этого не хотел, надо последить за собой. Ведь, в сущности, вечер для него выдался чудесный, весьма необычный, начавшийся, правда, с душевного стресса, но теперь совершенно безоблачный и имевший все предпосылки таким и остаться. Хильдегунда разговаривала с метрдотелем, попросила немного повременить с десертом и спросила о красных винах, хотела переключиться на красное.
— Как ты считаешь?
D'accord! [19] Согласен (фр.).
До Виктор по-прежнему не понимал — в свое время, для ума подростка, это еще не имело значения, — как его отец, которого в детстве разлучили с родителями и эшелоном увезли прочь, мог позднее отправить в интернат собственного сына и считать это совершенно нормальным. А мать, эта клуша? Когда ему было восемнадцать, она, будь ее воля, за руку водила бы его в университет, только бы с ним ничего не случилось, а для восьмилетнего мальчика — лишь беглый поцелуй у ворот казарменной постройки… и всё, нет ее, упорхнула, красавица, которой он так гордился, мама, которой не было рядом, когда он в ней нуждался. И светлый пастельный мир потемнел, изредка в темноте взблеск ее губ, взблеск тонких чулок, когда он провожал ее взглядом, а она уходила, надолго, до следующих каникул. Позднее, после интерната, ему ужасно хотелось завести пленника — рыбку в аквариуме, птичку в клетке, кошку в квартире, — и она конечно же мигом объявила: «Нет, ты этого не сделаешь!» Каждое слово отчеканила: «ты!», «не сделаешь!».
Хильдегунда изучала карту вин.
— Взять самое дорогое или лучшее из тех, какие я знаю?
— Предлагай!
— Гм, дай подумать…
Однажды он спросил у отца про тридцать восьмой год, про детский эшелон, но отец оказался неспособен говорить об этом. Холодное безмолвие, и всё. Но что ты тогда чувствовал? Каково тебе было, что ты думал, что испытывал? Страх? Или ярость? Как ты воспринял разлуку с родителями?
Долгий разговор, по-настоящему так и не состоявшийся. В сущности, все, что вышло на свет, было не зарубцевавшейся, а окаменевшей раной. И потом, отец сказал: «Что ты, собственно, хочешь от меня услышать?»
«Хочу узнать, каково тебе было, какие чувства ты испытывал и…»
— Как тебе красное… с виноградников Генриха? — спросила Хильдегунда.
— Подать его сюда!
Не время сейчас ударяться в меланхолию. Виктор зажмурил глаза — и услышал, как метрдотель крикнул официанту:
Читать дальше