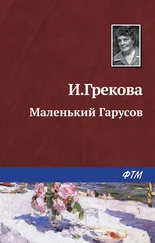У Генриха Федоровича все не так. Тут тоже есть книги, но не такие — строгие, тяжелые, в кожаных переплетах, а внутри — странные, рогатые буковки… Огромный буфет, похожий на дом с окнами и дверями, — в нем, наверно, можно было бы жить. На полке — глиняная пивная кружка с оловянной крышкой, а на ней рисунки белой и коричневой глазурью: охотники едут на охоту, кто кормит собак, кто чистит ружье. Нажмешь пальцем — крышка откинется, и из кружки можно пить пиво, хотя что такое «пиво», Тань-Тин не знает. На шелковой нитке подвешено чучело птички-колибри со сверкающей, ярко-синей грудкой, бывают же такие птицы, счастливые. (Тань-Тин даже снегирю завидовал, что он красный.) На столике — фарфоровая статуэтка: мальчик, нагнув голову, вынимает из ноги занозу: волосы у него почему-то не падают вниз, а красивыми волнами лежат вдоль щек. На стене — черная овальная рамочка с венком из мелких сухих цветов, а в рамочке выцветшая фотография: белокурая девочка с маленькой собачкой на руках. Девочка напряженно, без улыбки, смотрит перед собой бесцветными глазами с булавочными точками зрачков, а собачка подняла ухо, прислушивается. «Кто это?» — спросил однажды Тань-Тин. Генрих Федорович коротко сказал: «Амальхен», — и мальчик понял, что спрашивать больше не надо.
Иногда Генрих Федорович варил кофе. Времена были тяжелые, скудные, кофе — ячменный, без молока и почти без сахару, но как это было вкусно! Особенно черный хлеб, нарезанный кубиками, подсушенный на сковородке, и каждый кубик посыпан немножко солью и немножко — перчиком. Ничего не могло быть вкуснее, чем эти кусачие кубики с горячим, коричневым, горьковатым кофе. Выпив свою чашку, Тань-Тин вежливо говорил «данке бестенс», как учил его Генрих Федорович, и торопился встать из-за стола, чтобы не показать виду, как ему хочется еще.
Но самое лучшее было, когда Генрих Федорович брался за скрипку.
Скрипка лежала в черном, ветхом футляре, завернутая в шелковое одеяльце, как маленький ребенок. Генрих Федорович вынимал ее, бережно протирал замшей, проверял пальцем смычок и, зажав скрипку подбородком, наклонив к ней большое седое ухо, начинал играть. Уже первые, болезненно противоречивые звуки настройки хватали Тань-Тина за душу. Тоненькие иголочки, нет, лопающиеся пузырьки шли у него по спине, и каждый волосок на их пути становился дыбом. А потом, блаженно разрешая противоречие, начинала петь музыка. Генрих Федорович играл — и плакал. Крупные, прозрачные слезы собирались в уголках глаз и чинно, одна за другой, катились по морщинам к носу. Тань-Тин слушал и был счастлив и думал о Генрихе Федоровиче, и об Амальхен, и о своей маме, которая где-то там одна на службе, ему было жалко всех — и все-таки он был счастлив. И долго-долго потом, когда он уже давно вырос и стал взрослым, Костя никогда не мог слушать спокойно, как настраивают скрипки. Болезненно-острое, дребезжащее, пронзительное чувство проходило у него по спине. А потом начиналась музыка. Скрипки пели, и ему было жалко всех, и он был счастлив.
* * *
Еще была в квартире соседка — тетя Дуня с дочками. Дочери — незамужние, некрасивые — работали на фабрике, а тетя Дуня сидела дома, хозяйничала. Рано постаревшая, в темном платке, с негнущимися, но ловкими коричневыми пальцами, она целый день шмыгала: из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Тань-Тин иногда просто думал, что она не умеет сидеть. Все время она была на ногах, все время что-то скребла, чистила, перетирала. И все у нее выходило ловко, складно, ухватисто. Она чистила картошку, проворно орудуя старым, сточенным на нет ножом, — и кожура завивалась над столом тончайшей, длинной, вырезной лентой. Гладила белье и, набрав в рот воды, спрыскивала — и вода мельчайшей радужной пылью повисала в воздухе. Тань-Тину очень нравилась эта пыль, он сам попробовал брызгать изо рта, но не смог — только облился.
В комнате у тети Дуни было красиво, как в сказке. Кружевные, накрахмаленные, стоячие занавески. Высокая, неприступная кровать с пирамидой подушек в ярко-белых, вышитых наволочках, одна другой меньше. В углу — иконы с начищенными, блещущими ризами, перед ними лампадки с огоньками, большое фарфоровое пасхальное яйцо на голубой ленте. А на окнах — цветы, красные, бархатные герани, огорченные фуксии с поникшими розовыми головками и, наконец, на табурете, в зеленой деревянной кадке, китайский розан — уже не цветок, не куст — костер красоты.
А какой у тети Дуни был примус! Яркий, гордо стоящий на прямых, чуть расставленных ножках. Когда тетя Дуня накачивала примус, он начинал рокотать и петь, широко разбросав над головой синее пламя. У них с мамой был совсем другой примус: тусклый, закапанный, жалко свернувшийся набок. Когда его зажигали, он долго сопротивлялся, а когда загорался, то желтым, коптящим огнем, с шипением выпуская то в одну, то в другую сторону длинный язык…
Читать дальше