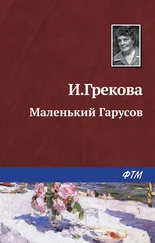Этот человек иногда приходил, приносил деньги, глядел рассеянно и грустно на маленькую Цилю или, сидя за столом, наигрывал на зубах. Костя ненавидел эту его привычку, ненавидел яркие, большие зубы. Неужели это — тот самый человек, бог-огонь его ранних лет? Он искал и не находил в себе искорки прежнего чувства. Напротив, с мучительным злорадством отмечал злые черточки времени на когда-то прелестном облике: ранние сединки в поредевших кудрях, красные прожилки на глазах, дряблую вялость кожи. Жалок был этот человек — вот что! Жалок, но презрен. Костя запретил себе его жалеть.
А иногда отец приходил не один — с Валентиной. Эту Костя ненавидел открыто, даже не давая себе труда быть вежливым.
С первого же раза, когда отец предупредил, что придет с нею, Костя ощетинился и приготовился ненавидеть. Это ему удалось. Он увидел средних размеров даму лет тридцати. Расстегнув в передней меховую шубку, она повернулась спиной к отцу и молча, одним движением плеч, сбросила ее. Шубка не должна была упасть на пол и не упала — отец подхватил ее и бережно повесил на распялку, которую вынул из портфеля. Валентина Михайловна, не глядя на него, поправляла волосы перед зеркалом — быстрыми мотыльковыми движениями, как это умеют женщины, устраняя тот беспорядок прически, который никому не виден, кроме них самих. Костя смотрел на эти движения и со вкусом ее ненавидел. Он даже был благодарен ей за то, что ее оказалось так легко ненавидеть! Он возненавидел бы ее в любом случае, но она облегчила ему задачу.
Она вошла в комнату. Изящно одетая, в тонком розовом джемпере, напудренная розовой пудрой, с розовыми локтями и ногтями — фу-ты, черт, сколько розовости! Что-то кондитерское, с кремом.
Валентина Михайловна, поджав губы и локти, оглядывала комнату. Сразу было видно, что ей здесь не понравилось.
Костя тоже оглядывал комнату. С его точки зрения, здесь сегодня был порядок. Он сам уложил, перетер книги, спрятал в шкаф вороха пеленок. Старался. Но взгляд розовой гостьи повел его за собой, и он увидел чужими глазами старые, потемневшие обои в косых клетках, фанерную тумбочку, закоптелый чайник, наконец, кроватку, в которой, играя красной тряпочкой, лежала Циля. На Цилю взгляд упал в последнюю очередь и выразил грациозную брезгливость. Легко переступая ножками на тонких, французских каблучках, она подошла к кроватке и не спеша выразила на лице подобающую нежность. Наклонилась, почмокала розовыми губами и воскликнула: «Какая прелесть!» Постояв так минуту или две, она обернулась к отцу и шелковым голосом пропела:
— Ну, что же, Саша, как я и ожидала, здесь есть над чем поработать. Бедная малютка! Никаких условий. Надо будет взять все это в свои руки.
— Убирайтесь вон! — неожиданно для самого себя сказал Костя.
— Как это: убирайтесь вон? — спросила она и погрозила ему розовым пальчиком. — Так воспитанные дети не говорят. Уверяю тебя, Саша, — она снова обратилась к отцу, — он у тебя запущен. И немудрено: им же никто не занимался!
— Валя! — умоляюще сказал отец.
— Что Валя? Он же мне сказал грубость. В других обстоятельствах я бы на него обиделась. Но, учитывая, что мальчик недавно потерял мать, очень переживает, я готова ему простить.
Костя стоял, слепой от гнева и от желания бить ее, бить по розовым щекам. Запущен!
— Валя, мне кажется, нам лучше на первый раз уйти, — сказал отец задушевным голосом.
(Ведь он-то все понимал, как же он мог?)
— Уйти? С удовольствием! — щебетнула она. — Навязчивость не в моей натуре. До свидания, Костя. Не думай, что я на тебя обиделась. Я понимаю твои переживания. До свидания, моя прелесть! (Воздушный поцелуй — Циле.) Мы еще сюда наведаемся. Саша, идем!
Она выпорхнула, как балерина со сцены. Отец задержался.
— Костя, — заговорил он, мучительно запинаясь, с каким-то отвращением, — я знаю, ты меня осуждаешь… В каком-то смысле ты прав. Я и сам… Ну, да что говорить. Одно прошу — не торопись. Только не торопись. Когда ты вырастешь и кое-что поймешь в жизни…
Костя молчал. Какое-то это все было знакомое… Где-то он уже читал такой разговор отца с сыном.
«Вырастешь — поймешь». Нет уж, если на то пошло, он не хотел вырастать!
— Саша! — раздался повелительный окрик.
— Иду-иду.
Отец вышел. Костя смотрел сзади на его косую, сбивчивую походку, такую точно, какой он вышел к телефону в то утро. Словно дверь была слишком велика, чтобы из нее выйти.
— Ну что, ушли мамзели-то? — послышался голос, и вошла тетя Дуня. Она теперь называла Валентину Михайловну не иначе, как во множественном: «мамзели».
Читать дальше