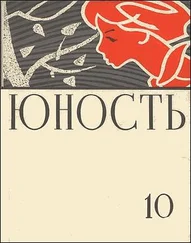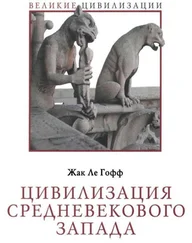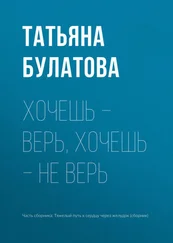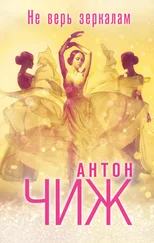К вечеру внезапно дождь кончился, и на горизонте, над неразличимыми горами, протянулась оранжевая полоска вечерней зари. К последнему троллейбусу они шли под мокрыми деревьями. С листвы время от времени скатывались и падали крупные тяжелые капли. Желтый свет фар и красные тормозные огни растекались, дрожали на влажной мостовой.
Дима нес чемодан. Он шел впереди, Вера с матерью отстали. Мать все оглядывалась на темные окна дома, где уже крепким сном спала Танька.
– Ты с ней больше разговаривай, дочушка, – сказала мать. – Твое же дитё. Растет она. Детская душа как грядка. Что посеешь на ней, то и вырастет.
– А ты со мной много разговаривала, когда я росла?
– Тады война была, дочушка, – сказала мать. – А тепер войны, слава богу, нема. Как-то уже найди время. Конечно, она пионерка, в школе ее учат. А только школа мать не замене…
– Ладно, – соглашается Вера. Выделю ей родительский час…
– Так-так, – приговаривает мать и смотрит на Веру близко, сощурясь. – Таньке час, Димке час… Такой был и батька твой. Час дома, а сутки где-то.
Троллейбус, почти пустой, покачиваясь, скользит вдоль темных улиц, оставляя позади белые дома за белыми каменными оградами, дворики, усыпанные облетевшим цветом яблонь и урюка. Мать думает о чем-то, смотрит в темное стекло. В темном стекле, как в зеркале, видны ее прищуренные глаза с тем знакомым мгновенным напряжением в зрачках, возникающим, когда мать силится что-то понять. Высокий крутой лоб, упрямый подбородок. Вот мать поправила косу и чуть заметно улыбнулась в темное стекло… Чему улыбнулась она? Кому?
Не осталось даже молодых фотографий, которыми можно похвастать, – все пропали в войну. А зеркало – жестокая штука, лишенная памяти. Оно признает лишь настоящее…
«У меня было два отца, – думает Вера. – Третьего мне не надо…»
Вот Яким Межонок вернулся с боевого задания, чудом уйдя от бандитского топора, брошенного в возок. Молодой, отчаянный начальник угрозыска. Он вернулся и лежит на кровати поверх байкового одеяла, спустив на пол ногу в сапоге. А она, его маленькая дочка, ползает по нему, тянет за волосы, хлопает ладошкой по носу, по лбу, – так рассказывала мать. И он хохочет, подняв ее над собой, как куклу, и глядя, как она сучит толстыми ножонками, еще ни разу не стесненными обувью.
А вот ее второй отец, Борис Петрович, забежав домой с учений на полчаса, просит: «Верка, а ну почитай мне чего-нибудь». И она, уже третьеклассница, берет своего «Робинзона» и начинает читать вслух, с выражением, а он, большой, грузный, сидит на диване и слушает, а потом вдруг засыпает посреди чтения. Кажется, до конца они так и не дошли…
Борис Петрович был ей вторым отцом. Этот же будет только мужем ее матери. Новым человеком в ее судьбе.
Тогда, на Старой Кубани, мать рассказала ей про Асьму, свою сополчанку. Асьма вышла не по любви, говорила мать, просто чтобы не быть одинокой. «Какая может быть любовь в наши годы?»
«Не знаю, как Асьма, – думала Вера, – мать если выйдет, то по любви…»
Мысль о том, что мать выходит замуж по любви, причиняла Вере неясную боль, поселяла в душе чувство сиротства. Как будто ее, тридцатилетнюю девочку, бросили одну в толпе, на вокзале.
Вокруг кипела вокзальная суета. Носильщики, связывали и вскидывали на плечи чемоданы. Белели в темноте бескозырки моряков-транзитников. Подкатывали такси. Низко, над самой вокзальной площадью, висел желтый фонарь луны.
До поезда еще оставалось время. Под навесом нашлась сухая скамейка, и они сели. Дима поставил чемодан. Вера скорее почувствовала, чем увидела, как он разглядывает ее в темноте. Словно сравнивает с кем-то.
– Ты чего? – спросила она. – Своих не узнаешь?
– Узнаю, – сказал он и выпустил колечко дыма. – Пока что…
Что-то появилось в его тоне новое, непривычное для ее слуха. Интересно, как он тут жил без нее?.. На виноватого не похож.
– Смотри у меня! – сказала Вера на всякий случай.
Длинный поезд обдал их грохотом и свистом. Они протиснулись в душный, нагретый еще новороссийским солнцем вагон. Морской капитан лет сорока учтиво поднялся. Он с удовольствием посматривал на Веру, ожидая, что его спутницей будет она. Она и правда была хороша. В редакции все ахнули, когда Вера вошла, – такая она стала черная и так блестели ее синие глаза на загорелом лице, оттенявшем пшеничную желтизну ее, волос. Иных дорога изматывает, утомляет, а ее всегда красит. И, глядя на нее, люди невольно начинают ей завидовать. Те, что отнюдь не завидовали ей, когда она уезжала. Нет, они не хотели уезжать. Они хотели возвращаться…
Читать дальше