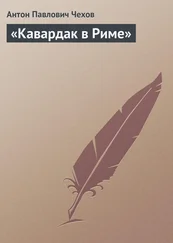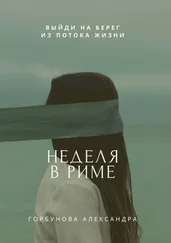В это время его увидел Адольф; он увидел отца из своей ложи, тот взволнованно аплодировал, а сын не знал, следует ли выражать одобрение, в котором он не слишком был уверен, да и подобает ли человеку, носящему одежду священнослужителя, аплодировать столь необычной в сомнительной музыке? Руки сидевшей рядом с ним дамы были спокойно сложены на коленях. Может быть, эта дама сочтет за дерзость, если священник подле нее присоединится к клаке? И все-таки Адольф присоединился бы к числу аплодирующих, выйди Зигфрид на эстраду, Зигфрида надо было благодарить за то, что он выразил тревогу господню; а если он не вышел на свет рампы, чтобы вкусить плоды своего успеха, это тоже говорит в его пользу. Но каким образом здесь появился Юдеян и почему он аплодирует музыке Зигфрида? Или Юдеян вдруг постиг язык этих звуков? Или они взволновали его и порадовали? Неужели в мире звуков Юдеян и Зигфрид все же поняли друг друга? Адольф не подозревал о существовании маленького Готлиба в душе Юдеяна и потому был не в силах разгадать поведение отца и мог истолковать его только неправильно.
Пфафраты понять не могли этого успеха, они слышали свист галерки, которую аплодисменты партера только раззадорили, до них доносились восклицания итальянцев, выговаривавших согласные в фамилии Пфафрат как-то особенно подчеркнуто, и думали: каким же прогнившим, слепым, до ужаса разложившимся должно быть это неудержимо катящееся в бездну римское общество, если оно способно так восхищаться музыкой их сына! Однако предстоящий закат римского высшего общества не пугал Пфафратов, а, наоборот, укреплял их веру в собственное превосходство: считая себя истинными немцами, получившими в наследство от предков здоровую кровь и неуязвимыми для всяких онегритяненных созвучий, они надеялись извлечь из разложения Европы выгоду для собственной нации, которая скоро снова возьмет в руки гегемонию; и вот, все еще с повязкой национальной глупости на глазах, глупо успокоенные тем, что мучительная музыка кончилась и скандала, позорящего их фамилию, пока бояться нечего, Пфафраты тоже слегка похлопали в честь сына и брата. А Дитрих постичь не мог, почему Зигфрид, которого так упорно вызывают, не показывается. И это встревожило его, как тревожило все, чего он не понимал. Почему Зигфрид прячется? В чем тут фокус? Трусость или уже высокомерие? Надо все же это выяснить, и Дитрих предложил поискать Зигфрида в артистической.
Я медленно спустился по лестнице, ведущей с галерки. Я знал, что теперь Кюренберг будет на меня сердиться. Он будет сердиться, что я опять пренебрег условностями, на которых держится профессия музыканта, и не раскланялся перед публикой. Пусть даже я не во фраке — все равно надо было выйти на эстраду. Но показываться мне не хотелось. Аплодисменты претили мне. Восторженное настроение публики в моих глазах ничего не стоило. Я чувствовал благодарность к освиставшему меня Олимпу; правда, сидят там тоже не боги.
Кюренберг устал, он опустился в красное плюшевое кресло. Вокруг него сверкали молнии фотографов. Он не упрекнул меня. Он меня поздравил. А я поблагодарил его и тоже поздравил, заявив, что это его успех, да это и был его успех, но он отверг мою благодарность; тут что-то было не так, уж слишком каждый из нас отвергал любезности другого; и все-таки это его победа, он блеснул моей музыкой, но ему самому достаточно сознания, что эксперимент с новыми комбинациями в пределах ограниченного числа звуков удался, он исполнил одну из миллионов возможных звуковых комбинаций и показал, что музыка неустанно развивается, что это сила, которая продолжает жить среди нас, и теперь задача в том, чтобы идти вперед, к новым сочетаниям звуков. Он прав. Почему я не думаю о новых композициях? Или мой огонь погас? Не знаю. Мне стало грустно. Я бы охотно отправился к своему фонтану, к фонтану Треви; охотно посидел бы на его краю, разглядывая спешащих мимо глупых туристов и жадных до денег красивых мальчишек.
Подошла Ильза Кюренберг, она тоже поздравила меня. Рука, которую она мне протянула, была холодна. И я опять увидел в Ильзе Кюренберг трезвую и скептическую музу музыки наших дней, но признания этой музы я не завоевал. Мне хотелось поблагодарить ее за то, что я не завоевал ее признания, но я не знал, какими словами ей это сказать, чтобы она правильно поняла меня. Пока я подыскивал слова, стараясь выразить свои ощущения, я увидел в ее лице такую неприязнь, что испугался. Однако тут же понял, что она смотрит с ужасом не на меня, а на кого-то за моей спиной, и когда я обернулся, желая понять причину ее испуга, то увидел, как ко мне приближаются мои родители, увидел, что приближается мой брат Дитрих, а позади них стоит, повергая меня в оцепенение, тот, чей устрашающий образ мне памятен с юности, — восставший из мертвых дядя Юдеян, и он, глядя на меня, осклабился, словно хотел сказать, что вот-де он воскрес и мне уж придется с ним ладить, прежняя власть вернулась, а в дверях появилось расстроенное лицо Адольфа. Это был поистине семейный праздник Пфафратов — Юдеянов, все они собрались здесь, и мне померещилось, что я вижу голову Горгоны. Мне стало стыдно. Стало стыдно моей семьи и стыдно за то, что я стыжусь моей семьи, и я чувствовал себя, как пес, которого окружили живодеры с сетями. Моя свобода была под угрозой. Отец и мать поздравляли меня, и они угрожали моей свободе. Они обращались ко мне, но я не понимал того, что они говорят; я чувствовал одно: моя свобода под угрозой. Мой брат Дитрих заявил, что я молодец, и сделал хитрую гримасу, он тоже угрожал моей свободе. А потом я увидел, как мой отец повернулся к Кюренбергу и поздоровался с ним, точно с добрым старым знакомым. Он напомнил Кюренбергу о нашем городском театре, заговорил о тамошнем оркестре, об абонементных концертах я о том, как хорошо жилось в тысяча девятьсот тридцать третьем году.
Читать дальше