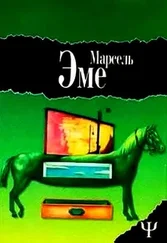Жандармы и полицейские ограждали от напиравшей толпы обширное свободное пространство в форме полумесяца у входа в вокзал. Слева от двери стояли мэр, муниципальные советники, супрефект, каноник Бертен, кюре Жайе, заводские инженеры и просто именитые граждане, в числе которых был и Монгла-отец. Справа — восемь бойцов ФФИ при оружии, представители коммунистической и социалистической партий и преподавательский корпус Блемона. Свой балкон на втором этаже начальник вокзала предоставил оркестру блемонской филармонии. Социалисты развернули огромное трехцветное знамя, втихомолку сшитое к радостному событию, но коммунисты, каким-то образом пронюхавшие об этом, водрузили над головами еще большее, красное с позолоченной бахромой. Журдан, нарушив протокол, покинул своих коллег, чтобы встать под знамя партии, но слух о его вчерашнем злоключении уже докатился до ушей товарищей, и они вполголоса переговаривались, потешаясь над ним. Даже Генё, который благодаря столь решительному поведению молодого учителя стал относиться к нему чуть ли не с симпатией, не мог сдержать улыбки всякий раз, когда взгляд его останавливался на распухшей губе незадачливого драчуна.
Показавшийся в дверях начальник вокзала объявил, что поезд опаздывает на четверть часа. Собравшиеся были серьезны и слегка взволнованы. Журдана опоздание поезда не на шутку раздосадовало. Чувствуя себя мишенью пусть и благожелательной иронии своих товарищей, он злился и страдал. Едва ли не вызывающим тоном он заговорил с ними о Леопольде и о необходимости сурово покарать его за громогласные поношения партии. Это предложение было встречено враждебным молчанием. Историей с Леопольдом все были сыты уже по горло, к тому же сам герой вызывал у сограждан симпатию. В отличие от Журдана, который всегда, в самых мелочных обстоятельствах повседневной жизни ощущал себя коммунистом, его товарищи были весьма далеки от этого почти физического осознания своей миссии и, определяя свое место в окружающем мире, ориентировались на свою работу, на родственников и друзей, на привычки и личные связи. Поэтому они сохранили способность воспринимать юмор, который в глазах всякого блемонца содержало в себе устроенное Леопольдом представление. В ответ на продолжающиеся нападки учителя один из них сказал: «Послушай, это уже начинает надоедать. Его только вчера выпустили из тюрьмы — так что же, сегодня снова сажать?» А другой добавил: «Отлупи его, и дело с концом». Представив себе схватку Журдана с Леопольдом, окружающие развеселились, раздался дружный хохот.
Журдан, стиснув челюсти, повернулся к насмешникам спиной. Уязвленный, он особенно негодовал на них за извращенную снисходительность, которую они выказывали по отношению к кабатчику. «Для французского трудящегося нет ничего опасней, — думал он, — ничего гибельней, чем это чувство юмора и тяга к живописному, которые ослабляют естественные реакции классового сознания. Именно этот недостаток серьезности играет на руку противнику. Буржуазия прекрасно понимает это и использует своих фернанделей, шевалье, своих эдит пиаф, чтобы представить пролетариату социальную трагедию в каком угодно свете — комическом, поэтическом, трогательном, но только не в истинном. Смех, нежность, поэзия — вот настоящие враги народа. Нам надобен пролетариат, снедаемый единственно чувствами ненависти, злобы и уныния». Пока товарищи за его спиной вели глупую болтовню о каком-то ателье, о детях, о фильме, виденном накануне, он обращал свое скверное настроение против чересчур голубого неба, против ветерка, насыщенного ароматами полей, а в особенности против этой слишком хорошо одетой многочисленной толпы, которую он хотел бы видеть оборванной, продрогшей, шлепающей по зловонному месиву под низко нависшими свинцовыми тучами. Единственным утешением взору были тянувшиеся слева от вокзала развалины. От двух гостиниц, кафе и типографии, некогда окаймлявших площадь, сейчас остались лишь груды щебня да обломки стен, на которые взгромоздились несколько десятков блемонцев.
За развалинами типографии, посреди разбомбленной винокурни Монгла-отца, беседовали наедине Мари-Анн и Мишель, укрытые от нескромных взоров остатками стен бывшей конторы виноторговца. В черном костюме, в черной шляпе, с крахмальным воротничком и жемчужно-серым галстуком Монгла-сын говорил добрых сорок пять минут, и Мари-Анн, слушая его, успела уже несколько отупеть.
— Наши предки рыцари, всадники в железных доспехах, вели трудное, но честное и полное идеалов существование. И они были счастливы. Почему? Да потому что совесть у них была чиста. Сегодня люди думают только о деньгах, уровень морали день ото дня падает, и уже меньше счастливых, чем раньше. Я думаю, пора забить тревогу и вернуться к простоте наших отцов. Что касается меня, то я намерен отныне вести достойную жизнь. Наше счастье, дорогая, будет создаваться одним лишь моим трудом. У меня есть сбережения, я куплю большой обувной магазин, и плодами наших усилий станет скромный, но прочный достаток. Он позволит нам воспитывать наших детей и сделать из них впоследствии порядочных мужчин и хороших домохозяек. Я решил, что наша свадьба состоится в октябре.
Читать дальше
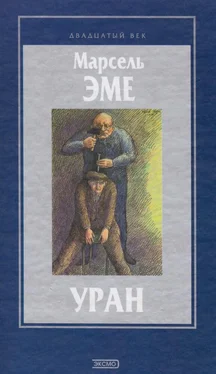
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)