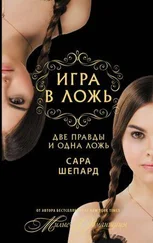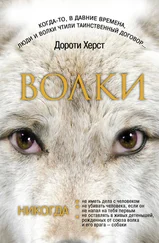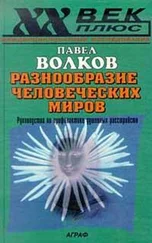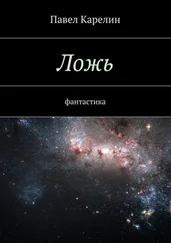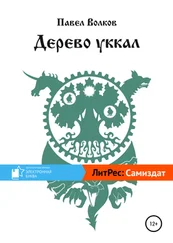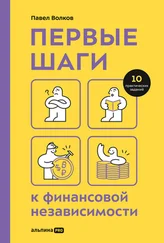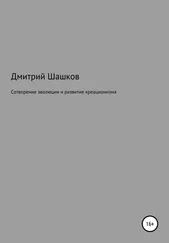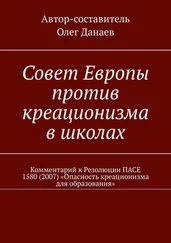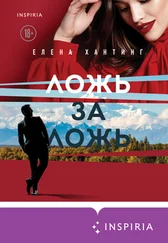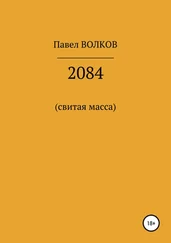«…в анатомии неандертальца или же в движениях, в умении использовать инструменты, в уровне ума и способности говорить, нет ничего примитивного…»
Но есть и иное мнение.
«В 1971 году Филип Либермен (Коннектикутский университет) и Эдмунд Крелин (Йельский университет) попытались возродить звучание этих давно умолкших голосов. Они начали исследования лингвистических способностей неандертальцев с измерения шейных позвонков и основания черепа окаменелости, найденной в Ла-Шапель-о-Сен. Полученные результаты были использованы для определения формы голосового аппарата — полостей носа и рта, а также горла, которые, расширяясь и смыкаясь различными сложными способами, разнообразят простые тоны, возникающие в гортани, где находятся голосовые связки, и оформляют звуки, из которых слагается речь. Измерения дали полагать, что у неандертальца отсутствовала глотка — камера, находящаяся между полостью рта и гортанью, — в том виде, в котором она имеется у современного человека. В результате человек из Ла-Шапель-о-Сен был не способен чётко артикулировать такие гласные звуки, как „а“, „у“, „и“, „о“, а также согласные „г“ и „к“. доступный ему репертуар звуков был весьма бедным по сравнению с тем, которым пользуемся мы, — он состоял из меньшего числа согласных, а диапазон гласных был очень узок, исчерпываясь звуками вроде „ы“, „э“, „ыэ“, „ыа“…
Интересно, что неандертальцы, жившие за пределами Западной Европы, возможно, обладали более совершенным голосовым аппаратом. Либермен и Крелин, продолжив свои исследования, определили, что родезийский человек в Африке имел несколько более современную глотку, чем человек из Ла-Шапель-о-Сен. А голосовой аппарат человека, чей скелет был найден в Схуле, на Ближнем Востоке, был почти современным». (Джордж Констэбл «Неандертальцы» (серия «Возникновение человека»,
1973 г. (1978 г. — русское издание), стр. 82)
Из этого отрывка можно узнать достаточно много. Во-первых, многие неандертальцы ограниченно владели речью, а во-вторых, сам вид был неоднороден, а некоторые популяции по ряду признаков приближались к современному человеку. Конечно, нельзя представлять неандертальцев тупыми людьми. Ведь, кроме речевого, у них мог быть и язык жестов. Но в данном случае мы ведём спор именно о звуковой речи и способности неандертальца общаться голосом.
Стр. 66: об архаическом типе человека разумного:
«У аборигенов [австралийских], как у представителей этой расы крупные надбровные валики, челюсть без подбородочного выступа и чуть меньший объём мозга».
Книга В. Дольника «Непослушное дитя биосферы» (М., Педагогика-Пресс, 1994), стр. 34:
«…расы человека — результат расселения на новые территории маленьких групп людей, приносивших с собой не весь генофонд человека, а какую-то его случайную часть. То есть расы не результат приспособительной эволюции в новых условиях, а случайный продукт малых выборок. Этот вывод очень понравился бы Ч. Дарвину, ведь он более ста лет назад понял, что расы не продукт обычного естественного отбора». Так что австралийцы могли быть и не с выраженными надбровными дугами. А что касается подбородочного выступа к них — оставим это утверждение на совести автора. Австралийские аборигены не отличаются от нас способностью говорить (а именно к подбородочному выступу крепятся губные мышцы, участвующие в формировании звуков речи).
Стр. 67: о кроманьонском человеке:
«Присутствовал надбровный валик и характерный неандертальцу и Homo erectus костный выступ в затылочной части черепа».
Стр. 67:
«Australopithecus существовали от 4-х до 1-го миллиона лет назад, а существа, классифицируемые как Homo habilis, 1,7-1,9 миллионов лет назад. Возраст же Homo rudolfensis, который по мнению эволюционистов более развит, чем Homo habilis, определён в 2,5-2,8 миллионов лет. То есть, Homo rudolfensis старше своего так называемого „предка“ Homo habilis почти на 1 миллион лет. С другой стороны, возраст Homo erectus составляет около 1,6-1,8 миллионов лет. То есть появление Homo erectus и их „предков“ Homo habilis приходится на одно и то же время».
Существовало много аберрантных (отклоняющихся) местных форм людей — оседлых приматов. Поэтому такие находки неудивительны. Они говорят о резком ускорении изменений в отдельной популяции. Но быстрое вымирание подобных популяций говорит о том, что в их генофонде (более бедном по сравнению с генофондом вида в целом) отсутствовали мутации, адекватные изменениям в среде обитания. Так что более развитые антропоморфные признаки могли образоваться независимо друг от друга у разных популяций предковых видов.
Читать дальше