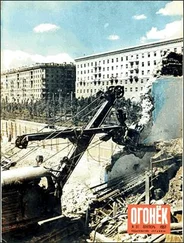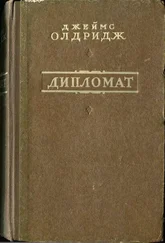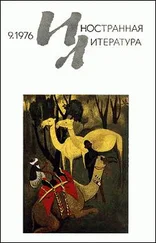— Глупец не заслуживает, чтобы его оплакивали, — возразил Гордон.
— Этого заслуживает каждый мужественный человек, который вплотную приблизился к истине, но остался к ней слеп и заплатил жизнью за то, что упорствовал в своей слепоте. Я оплакиваю его до сих пор и каждый день благодарю судьбу за то, что она свела меня сперва со старым дервишем, а потом с этим человеком.
— И за меня ты тоже должен благодарить судьбу, — сказал Гордон; — ведь если б не я, болтаться бы тебе на виселице.
— У тебя с ним много общего! — Зейн обернулся к Гордону, и глаза их встретились, словно какая-то сила, управляющая вселенной, вдруг дернула обоих за одну и ту же веревочку. Потом Зейн медленно, с грустью покачал головой. — Берегись, брат мой. Может быть, и тебя ждет такая же нелепая смерть.
— Зато ты, брат мой, будешь жить вечно, сохраняя верность своей догме!
Зейн пожал плечами; он жил легко, и мысль о смерти не была ему тягостна. Для этих двух людей, презиравших смерть, говорить о ней было не так уж интересно. Разговор иссяк. К тому же Гордона постепенно перестала занимать идея двойника. Образ Зейна — беспризорного мальчишки, овладевшего грамотой, — был для него неотразимо привлекателен, ему приятно было узнавать в нем свои черты; особенно эта жадность юного разума была такой ощутимой и понятной, как будто рассказ шел о его, Гордона, мальчишеских годах. Но в новообращенном революционере, как и в этом законченном догматике, в этом арабском Спартаке, который сейчас находился рядом с ним, ничего увлекательного не было; он не вызывал никаких эмоций, как не вызывает их родной брат своей давней и привычной близостью.
В конце концов Гордон, наскучив обществом Зейна, поручил его заботам бедуина, который должен был доставить Хамиду письмо Гордона; и маленький бахразец повернул своего верблюда, на котором сидел по-прежнему прямо, терпеливо снося усталость и боль в пояснице.
Единственное, что еще занимало Гордона, это мысль о том, как Хамид отнесется к чуждой ему философии Зейна, к его предложениям о союзе с горожанами, к его одежде рабочего. Ради этой стычки между догмой и верой Гордон и согласился доставить Зейна к Хамиду — так, во всяком случае, ему казалось. Они расстались без сожаления, потому что обоих уже тяготило их удивительное сходство. Иные судьбы ждали их впереди.
Фримен, тот самый англичанин, который искал дорогу к Талибу и которого теперь выслеживал поэт Ва-ул, был старым знакомым Гордона. Об этом и шла у него беседа с его спутником Мустафой Фавзи, бахразским сборщиком налогов, когда они мирно отдыхали в ночной тишине Джаммарской пустыни у старой, заброшенной печи для обжига кирпича.
— Гордон не из тех людей, которых принято называть выдержанными, приятными или симпатичными, — рассказывал Фримен. — Мне особенно запомнился его причудливый юмор. Этот юмор проявлялся какими-то бурными вспышками, я его никогда не понимал.
Мустафа с важным видом сочувственно кивал головой, в беспросветные глубины его существа уж, конечно, никакой причудливый юмор не мог бы проникнуть. — Я учился в Ираке в английской школе, — сказал он, — а позднее у меня было много сослуживцев англичан, но для меня всегда загадка, что и почему кажется англичанам смешным. Любопытно, мистер Фримен, что и вы тоже отмечаете своеобразие английского юмора.
В ответ на это Фримен засмеялся, чем лишний раз убедил Мустафу в легкомыслии англичан, ибо Мустафа, как всегда, говорил совершенно серьезно. Впрочем, и смех Фримена был тоже серьезный смех, как ни звонко прозвучал он в хрустальной тишине ночи, почти зримо расколов ее сверкающую тьму. Такова была противоречивая натура самого Фримена; он часто улыбался, но лишен был чувства юмора и смехом пользовался лишь для усиления эффекта сказанного, как пользуются, скажем, выражением «до смешного» в таких сочетаниях, как «до смешного похоже», «до смешного точно». Фримен мог бы даже сказать «до смешного подло»; подобное суждение отлично вязалось бы с его нарочитой благожелательностью, холеной физиономией и обходительными манерами.
— Пожалуй, причудливостью отличался не только юмор Гордона, — неторопливо продолжал он вспоминать. — У него во всем вдруг проявлялись неожиданные фантазии — от способа чистить яблоко до разговоров о политике, которых он не выносил. Он кидался из одной крайности в другую. В нем отсутствовали здоровые основы, а без этого у человека не может быть твердых принципов…
Читать дальше